убьют, или ты заедешь куда-нибудь к черту на кулички, или, наконец, я, не
дождавшись твоего возвращения, умру естественной смертью. Все это в
одинаковой степени возможно.
события за много времени вперед, я едва успевал воспринимать то, что
происходило со мной в данную минуту, и потому все предположения о том, что,
может быть, когда-нибудь случится, казались мне вздорными. Виталий говорил
мне, что в молодости он был таким же; но пять лет одиночного заключения,
питавшие его фантазию только мыс лями о будущем, развили ее до
необыкновенных размеров. Виталий, обсуждая какое-нибудь событие, которое
должно было, по его мнению, скоро случиться, видел сразу многие его стороны,
и изощренное его воображение точно предчувствовало ту неуловимую
психологическую оболочку и оболочку внешних условий, в каких оно могло бы
происходить. Кроме того, его знание людей и причин, побуждающих их поступать
таким или иным образом, было несравненно богаче обычного житейского опыта,
естественного для человека его возраста; и это давало ему ту, на первый
взгляд почти непостижимую, возможность угадывания, которую я наблюдал лишь у
редких и все почему-то случайных моих знакомых. Виталий, впрочем, почти не
пользовался ею, потому что был презрительно равнодушен к судьбе даже близких
своих родственников, - и его доброта и снисходительность объяснялись, как
мне казалось, этим, почти всегда одинаковым и безразличным, отношением ко
всем.
вопрос, - хотя он смеялся всегда над тем, что я офицер и кавалерист. Но он
был, пожалуй, прав. Я и тебя люблю, - продолжал он. - И вот перед твоим
отъездом я хочу сказать тебе одну вещь: обрати на нее внимание.
не вмещалась мысль о том, что он может интересоваться мной и советовать мне
что бы то ни было: он предпочитал всегда бранить меня за мое непонимание
чего-нибудь или за любовь к разговорам на отвлеченные темы, в которых я, по
его словам, ничего не смыслил; и однажды он чуть не до слез смеялся, когда я
ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина, а в другой раз он сокрушенно
качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго; он
презрительно отозвался об этом, как он выразился, человеке с ухватками
пожарного, душой сентиментальной дуры и высокопарностью русского
телеграфиста.
будущем придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как
вешают, как расстреливают. Все о не ново, не важно и даже не очень
интересно. Но вот что я тебе советую: никогда не становись убежденным
человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более
простым. И помни, что самое большое счастье на земле - это думать, что ты
хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь, тебе будет
только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько
времени, то увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два
убедишься, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое
главное и самое интересное в жизни.
нужен.
Смотри: если ты возьмешь ряд каких-нибудь явлений и станешь их
анализировать, ты увидишь, что есть какие-то силы, направляющие их движения;
но понятие смысла не будет фигурировать ни в этих силах, ни в этих
движениях. Возьми какой-нибудь исторический факт, случившийся в результате
долговременной политики и подготовки и имеющий вполне определенную цель. Ты
увидишь, что с точки зрения достижения этой цели и только этой цели такой
факт не имеет смысла, потому что одновременно с ним и по тем же, казалось
бы, причинам произошли другие события, вовсе непредвиденные, и все
совершенно изменили.
что я почти не видел его лица.
случае, если бы мы обладали точным знанием того, что когда мы поступим
так-то, то последуют непременно такие, а не иные результаты. Если это не
всегда оказывается непогрешимым даже в примитивных, механических науках, при
вполне определенных задачах и столь же определенных условиях, то как же ты
хочешь, чтобы оно было верным в области социальных отношений, природа
которых нам непонятна, или в области индивидуальной психологии, законы
которой нам почти неизвестны? Смысла нет, мой милый Коля.
сквозь листья деревьев едва виднелось небо. Оживленные места парка и город
остались далеко внизу; слева синела Романовская гора, покрытая елями. Она
казалась мне синей, хотя теперь, в темноте, глаз должен был видеть ее
черной, но я привык смотреть на нее днем, когда она действительно синела; и
тогда вечером я пользовался моим зрением только для того, чтобы лучше
вспомнить контуры горы, а синева ее была уже готова в моем воображении -
вопреки законам света и расстояния. Воздух был очень чистый и свежий; и
опять, как всегда, в тишине до меня явственнее доносился далекий и протяжный
звон, замирающий наверху.
послышались слезы, и я не поверил себе; я думал всегда, что они неизвестны
этому мужественному и равнодушному человеку.
сказал Виталий, - перед тем как застрелиться. Это был мой очень близкий
товарищ, очень хороший товарищ, - сказал, часто повторяя слово "товарищ" и
как бы находя какое-то призрачное утешение в том, что это слово теперь,
много лет спустя, звучало так же, как раньше, и раздавалось в неподвижном
воздухе пустынного парка. - Он был тогда студентом, а я был юнкером. Он все
спрашивал: зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования, это
сознание того, что если я умру стариком и, умирая, буду отвратителен всем,
то это хорошо, - к чему это? Зачем до этого доживать? Ведь от смерти мы не
уйдем, Виталий, ты понимаешь? Спасения нет. - Нет! - закричал Виталий. -
Зачем, - продолжал он, - становиться инженером, или адвокатом, или
писателем, или офицером, зачем такие унижения, такой стыд, такая подлость и
трусость? - Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне
таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах
женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все
это делаешь. Но он не поверил мне, он застрелился. Теперь ты спрашиваешь
меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю.
подала нам на террасу чай, Виталий посмотрел на стакан, поднял его, поглядел
сквозь жидкость на электрическую лампочку - и долго смеялся, не говоря ни
слова. Потом он пробормотал насмешливо: смысл жизни! - и вдруг нахмурился и
потемнел и ушел спать, не пожелав мне спокойной ночи.
добравшись до Украины, поступить в армию, Виталий попрощался со мной
спокойно и холодно, и в его глазах опять было постоянно-равнодушное
выражение, готовое тотчас же перейти в насмешливое. Мне же было жаль
покидать его, потому что я его искренне любил, - а окружающие его
побаивались и не очень жаловали. - Каменное сердце, - говорила о нем его
жена, - Жестокий человек, - говорила тетка. - Для него нет ничего святого, -
отзывалась его невестка. Никто из них не знал настоящего Виталия. Уже потом,
размышляя об его печальном конце и неудачливой жизни, я жалел, что так
бесцельно пропал человек с громадными способностями, с живым и быстрым умом,
- и ни один из близких даже не пожалел его. Расставаясь с ним, я знал, что
вряд ли мы потом еще встретимся, мне хотелось обнять Виталия и попрощаться с
ним, как с близким мне человеком, а не просто знакомым, явившимся на вокзал.
Но Виталий держался очень официально; и когда он щелчком пальцев сбросил
пушинку со своего рукава, то по этому одному движению я понял, что прощаться
так, как я хотел сначала, было бы нелепо и ridicule . Он
пожал мне руку, и я уехал. Была поздняя осень, и в холодном воздухе
чувствовались печаль и сожаление, характерные для всякого отъезда. Я никогда
не мог привыкнуть к этому чувству; всякий отъезд был для меня началом нового
существования. Нового существования - и, следовательно, необходимости опять
жить ощупью и искать среди новых людей и вещей, окружавших меня, такую более
или менее близкую мне среду, где я мог бы обрести прежнее мое спокойствие,
нужное для того, чтобы дать простор тем внутренним колебаниям и потрясениям,
которые одни сильно занимали меня. Затем мне было еще жаль покидать города,
в которых я жил, и людей, с которыми я встречался, - потому что эти города и
люди не повторятся в моей жизни; их реальная, простая неподвижность и
определенность раз навсегда созданных картин так была не похожа на иные
страны, города и людей, живших в моем воображении и мною вызываемых к
существованию и движению. Над одними у меня была власть разрушения и
создавания, над другими только клубилась моя память, мое бессильное знание;
и оно было недостаточным даже для того угадывания, даром которого обладал
дядя Виталий. Я видел еще некоторое время его фигуру на перроне; но уже
исчезал Кисловодск, и звуки, доносившиеся с его вокзала, тонули в железном
шуме поезда; и когда я приехал в тот город, где учился и жил зимой, то
увидел, что идет снег, мелькающий в свете фонарей; на улицах кричали лихачи,
гремели трамваи, и освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую
ватную спину извозчика, который взбрасывал вверх локти рук, державших вожжи,
беспорядочными и суетливыми движениями, похожими на дерганье рук и ног
игрушечных деревянных паяцев. Я прожил тогда в этом городе неделю перед
отправкой моей на фронт; я проводил время в том, что посещал театры и кабаре
и многолюдные рестораны с румынскими оркестрами. Накануне того дня, когда я
должен был уехать, я встретил Щура, моего гимназического товарища; он очень
удивился, увидав меня в военной форме. - Уж не к добровольцам ли ты




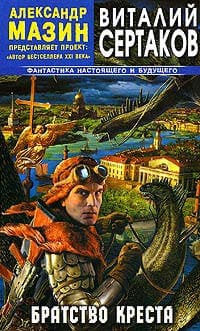

 Никитин Юрий
Никитин Юрий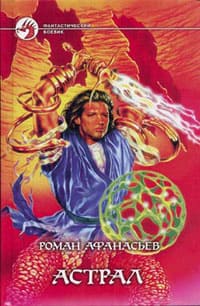 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Афанасьев Роман
Афанасьев Роман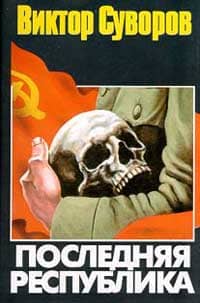 Суворов Виктор
Суворов Виктор Пехов Алексей
Пехов Алексей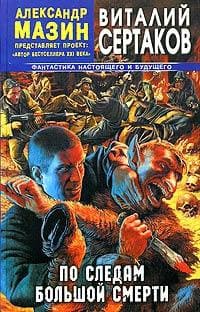 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий