надписями, в которых изощрялись российская безнадежная любовь и тщеславное
стремление увековечить свое имя. Я любил красные камни на горе, любил даже
"Замок коварства и любви", где был ресторан, а в ресторане прекрасные
форели. Я любил красный песок кисловодских аллей и белых красавиц курзала,
северных женщин с багровыми белками кроличьих глаз. Я проходил в парке мимо
того пустячного утеса на Ольховке, где постоянно дежурил фотограф, который
снимал дам и барышень, стоящих над падающей водяной стеной; эти снимки я
видел везде, в самых глухих углах России.
зданием с чувствительными надписями. Но вот по вечерам уже начинало делаться
чуть-чуть прохладно; ранней осенью я возвращался домой, чтобы опять
погрузиться в ту холодную и спокойную жизнь, которая в моем представлении
неразрывно связана с хрустящим снегом, тишиной в комнатах, мягкими коврами и
глубочайшими диванами, стоявшими в гостиной. Дома я точно переселялся в
какую-то иную страну, где нужно было жить не так, как всюду. Я любил
вечерами сидеть в своей комнате с незажженным светом; с улицы розовое ночное
пламя фонарей доходило до моего окна мягкими отблесками. И кресло было
мягкое и удобное; и внизу, в квартире доктора, жившего под нами, медленно и
неуверенно играло пианино. Мне казалось, что я плыву по морю и белая, как
снег, пена волн колышется перед моими глазами. И когда я стал вспоминать об
этом времени, я подумал, что в моей жизни не было отрочества. Я всегда искал
общества старших и двенадцати лет всячески стремился, вопреки очевидности,
казаться взрослым. Тринадцати лет я изучал "Трактат о человеческом разуме"
Юма и добровольно прошел историю философии, которую нашел в нашем книжном
шкафу. Это чтение навсегда вселило в меня привычку критического отношения ко
всему, которая заменяла мне недостаточную быстроту восприятия и
неотзывчивость на внешние события. Чувства мои не могли поспеть за разумом.
Внезапная любовь к переменам, находившая на меня припадками, влекла меня
прочь из дому; и одно время я начал рано уходить, поздно возвращаться и
бывал в обществе подозрительных людей, партнеров по биллиардной игре, к
которой я пристрастился в тринадцать с половиной лет, за несколько недель до
революции. Помню густой синий дым над сукном и лица игроков, резко
выступавшие из тени; среди них были люди без профессии, чиновники, маклера и
спекулянты. У меня было несколько товарищей, таких же, как я; и после общего
выигрыша мы все в десять часов вечера отправлялись в цирк, смотреть на
наездниц; или в какое-нибудь кабаре, где пелись скабрезные куплеты и
танцевали шансонетки; они приплясывали, стоя на эстраде и складывая руки
ниже пояса таким образом, чтобы концы большого и указательного пальца левой
руки соприкасались с концами тех же пальцев правой. Это стремление к
перемене и тяга из дому совпали со временем, которое предшествовало новой
эпохе моей жизни. Она вот-вот должна была наступить; смутное сознание ее
нарастающей неизбежности всегда существовало во мне, но раздроблялось в
массе мелочей: я как будто стоял на берегу реки, готовый броситься в воду,
но все не решался, зная, однако, что этого не миновать: пройдет еще немного
времени - я погружусь в воду и поплыву, подталкиваемый ее ровным и сильным
течением. Был конец весны девятьсот семнадцатого года; революция произошла
несколько месяцев тому назад; и, наконец, летом, в июне месяце, случилось
то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь, к чему все, прожитое и
понятое мной, было только испытанием и подготовкой: в душный вечер,
сменивший невыносимо жаркий день, на площадке гимнастического общества
"Орел", стоя в трико и туфлях, обнаженный до пояса и усталый, я увидел Клэр,
сидевшую на скамье для публики.
солнечную ванну, и лежал на песке, закинув руки за голову и глядя в небо.
Ветер шевелил складку на моем купальном трико, которое было мне чуть-чуть
просторнее, чем следовало бы. Площадка была пуста, только в тени сада,
прилегающего к соседнему дому, Гриша Воробьев, студент и гимнаст, читал
роман Марка Криницкого. Через полчаса молчания он спросил меня:
увидел оранжевую мглу, пересеченную зелеными молниями. Должно быть, я
проспал несколько минут, потому что ничего не слышал. Вдруг я почувствовал
холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча. Чистый женский голос сказал
надо мной: - Товарищ гимнаст, не спите, пожалуйста. - Я открыл глаза и
увидел Клэр, имени которой я тогда не знал. - Я не сплю, - ответил я. - Вы
меня знаете? - продолжала Клэр. - Нет, вчера вечером я увидел вас в первый
раз. Как ваше имя? - Клэр. - А, вы француженка, - сказал я, обрадовавшись
неизвестно почему. - Садитесь, пожалуйста; только здесь песок. - Я вижу, -
сказала Клэр. - А вы, кажется, усиленно занимаетесь гимнастикой и даже
ходите по брусьям на руках. Это очень смешно. - Это я в корпусе научился.
руки, литое, твердое тело и длинные ноги с высокими коленями. - У вас,
кажется, есть площадка для тенниса? - Голос ее содержал в себе секрет
мгновенного очарования, потому что он всегда казался уже знакомым; мне и
казалось, что я его где-то уже слыхал и успел забыть и вспомнить. - Я хочу
играть в теннис, - говорил этот голос, - и записаться в гимнастическое
общество. Развлекайте меня, пожалуйста, вы очень нелюбезны. - Как же вас
развлекать? - Покажите мне, как вы делаете гимнастику. - Я ухватился руками
за горячий турник, показал все, что умел, потом перевернулся в воздухе и
опять сел на песок. Клэр посмотрела на меня, держа руку над глазами; солнце
светило очень ярко. - Очень хорошо; только вы когда-нибудь сломаете себе
голову. А в теннис вы не играете? - Нет. - Вы очень односложно отвечаете, -
заметила Клэр. - Видно, что вы не привыкли разговаривать с женщинами. - С
женщинами? - удивился я; мне никогда не приходила в голову мысль, что с
женщинами нужно как-то особенно разговаривать. С ними следовало быть еще
более вежливыми, но больше ничего. - Но вы ведь не женщина, вы барышня. - А
вы знаете разницу между женщиной и барышней? - спросила Клэр и засмеялась. -
Знаю. - Кто же вам объяснил? Тетя? - Нет, я это знаю сам. - По опыту? -
сказала Клэр и опять рассмеялась. - Нет, - сказал я, краснея. - Боже мой, он
покраснел! - закричала Клэр и захлопала в ладоши; и от этого шума проснулся
Гриша, мирно заснувший над Марком Криницким. Он кашлянул и встал: лицо его
было помято, зеленая полоса от травы пересекала его щеку.
еще звучавшим из сна. - Григорий Воробьев.
- и студент третьего курса юридического факультета.
чрезвычайно молод.
не была постоянной обитательницей нашего города; ее отец, коммерсант,
временно проживал на Украине. Они все, то есть отец и мать Клэр и ее старшая
сестра, занимали целый этаж большой гостиницы и жили отдельно друг от друга.
Матери Клэр никогда не бывало дома; сестра Клэр, ученица консерватории,
играла на пианино и гуляла по городу, куда ее всегда сопровождал студент
Юрочка, носивший за ней папку с нотами. Вся жизнь ее заключалась только в
этих двух занятиях - прогулках и игре; и за пианино она быстро говорила, не
переставая играть: - Боже мой, и подумать, что я сегодня еще не выходила из
дому! - а гуляя, вдруг вспоминала о том, что плохо разучила какое-то
упражнение; и Юрочка, неизменно при ней находившийся, только деликатно
кашлял и перекладывал папку с нотами из одной руки в другую. Это была
странная семья. Глава семейства, седой человек, всегда тщательно одетый,
казалось, игнорировал существование гостиницы, в которой жил. Он ездил то в
город, то за город на своем желтом автомобиле, бывал каждый вечер в театре,
или в ресторане, или в кабаре, и многие его знакомые даже не подозревали,
что он воспитывает двух дочерей и заботится о своей жене, их матери. С ней
он встречался изредка в театре и очень любезно ей кланялся, а она с такой же
любезностью, которая, однако, казалась более подчеркнутой и даже несколько
насмешливой, отвечала ему.
улыбку мужа.
замуж за Юрочку; младшая, Клэр, была равнодушно-внимательна ко всем; в доме
их не было никаких правил, никаких установленных часов для еды. Я был
несколько раз в их квартире. Я приходил туда прямо с площадки, усталый и
счастливый потому, что сопровождал Клэр. Я любил ее комнату с белой мебелью,
большим письменным столом, покрытым зеленой промокательной бумагой, - Клэр
никогда ничего не писала, - и кожаным креслом, украшенным львиными головами
на ручках. На полу лежал большой синий ковер, изображавший непомерно длинную
лошадь с худощавым всадником, похожим на пожелтевшего Дон-Кихота; низкий
диван с подушками был очень мягок и покат - уклон его был к стене. Я любил
даже акварельную Леду с лебедем, висевшую на стене, хотя лебедь был темного
цвета. - Наверное, помесь обыкновенного лебедя с австралийским, - сказал я
Клэр; а Леда была непростительно непропорциональна. Мне очень нравились
портреты Клэр - их у нее было множество, потому что она очень любила себя, -
но не только то нематериальное и личное, что любят в себе все люди, но и
свое тело, голос, руки, глаза. Клэр была весела и насмешлива и, пожалуй,
слишком много знала для своих восемнадцати лет. Со мной она шутила:
заставляла меня читать вслух юмористические рассказы, одевалась в мужской
костюм, рисовала себе усики жженой пробкой, говорила низким голосом и
показывала, как должен вести себя "приличный подросток". Но, несмотря на






 Лукин Евгений
Лукин Евгений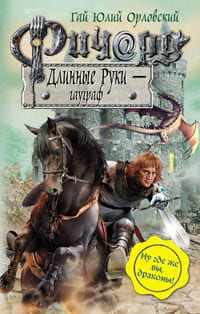 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Земляной Андрей
Земляной Андрей Панов Вадим
Панов Вадим Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте Чернецов Андрей
Чернецов Андрей