действительно пил чай из яблоневого цвета, да еще с медом, а мама, шутливо
грозя пальцем, предлагала мне сигарету, и где-то за стеной Лео играл на
рояле свои этюды, и все в доме - даже прислуга - понимали, что отец пошел
к "той женщине". Видимо, и Мария каким-то образом узнала, что я
"выдумщик": когда я ей что-нибудь рассказывал, она смотрела на меня с
сомнением. А ведь того мальчика в Оснабрюке я действительно видел. Но
иногда со мной происходит как раз обратное: то, что я действительно
пережил, кажется мне неправдой, фикцией. Мне теперь не верится, что
когда-то я поехал из Кельна в Бонн, чтобы побеседовать с девушками из
марииной группы о деве Марии. Все, что другие люди считают чистой правдой,
кажется мне чистыми выдумками.
17
валялась где-то внизу в пыли, и направился на кухню, чтобы сделать себе
еще бутерброд. Еды осталось не так уж много: еще одна банка фасоли, банка
слив (я терпеть не могу слив, но Моника этого не знала), полбулки,
полбутылки молока, четвертушка кофе, пять яиц, три ломтика сала и горчица.
В сигаретнице на столе в комнате еще лежали четыре сигареты. Я был в очень
плачевном состоянии и даже не надеялся, что смогу когда-нибудь работать.
Колено так опухло, что штанина стала тесна, а головная боль настолько
усилилась, что казалась просто невыносимой - непрестанная сверлящая боль;
в моей душе было чернее ночи, и еще это "вожделение плоти", а Мария - в
Риме. Без нее мне нет жизни, без ее рук, которые она клала мне на грудь.
Как изволил однажды выразиться Зоммервильд, "я обладаю деятельным и
действенным стремлением к телесной красоте"; мне приятно, если вокруг меня
красивые женщины, такие, например, как моя соседка, госпожа Гребсель, но
они не вызывают у меня "вожделения плоти"; и большинство женщин уязвлены
этим, хотя, если бы я стал вожделеть к ним и попытался удовлетворить свое
вожделение, они наверняка обратились бы в полицию. Вообще "вожделение
плоти" - сложная и злая штука; для мужчин, не склонных к моногамии, оно,
видимо, источник постоянных мучений, а для людей моего склада, однолюбов,
- постоянная причина скрытой неучтивости: большинство женщин чувствуют
себя почему-то уязвленными, если к ним не испытывают того, что они
понимают под "влечением". Даже госпожа Блотхерт, набожная дама, образец
добропорядочности, всегда немного обижалась на меня. Порой я понимаю даже
тех сексуальных чудовищ, о которых у нас так много пишут; а стоит мне
представить себе, что существуют так называемые "супружеские обязанности",
как мне становится страшно. Такого рода супружества уже сами по себе
чудовищны: ведь женщин принуждают в них к "тому самому" контрактом,
скрепленным государством и церковью. А разве можно принудить к милосердию?
Попытаюсь побеседовать с папой римским и об этом. Уверен, что его
неправильно информируют.
пальто вечернюю газету, купленную на перроне в Кельне. Случалось, вечерние
газеты помогали мне; читая их, я ощущал полную пустоту, так же как и перед
экраном телевизора. Я перелистал газету, просмотрел заголовки и наткнулся
на сообщение, которое заставило меня рассмеяться. Доктор Герберт Калик был
награжден орденом "Крест за заслуги". Калик - это тот молодчик, который
донес на меня, обвинив в пораженчестве, а потом, когда надо мной устроили
суд, потребовал проявить твердость, неумолимую твердость. Это его осенила
гениальная идея мобилизовать сиротский дом для "последней схватки с
неприятелем". Я знал, что теперь он важная птица. В вечерней газете
говорилось, что "Крест" ему пожаловали за "заслуги в деле распространения
демократических взглядов среди молодежи".
мной. Неужели я должен был простить ему сироту Георга, который погиб,
обучаясь бросать противотанковую гранату?.. Или то, что он донес на меня:
обвинил десятилетнего мальчишку в пораженчестве и потребовал проявить
твердость, неумолимую твердость? Но Мария сочла, что нельзя отказаться от
визита, цель которого - примирение; мы купили цветы и поехали к Калику. Он
оказался обладателем красивой виллы почти что на самом Эйфеле, красавицы
жены и ребенка, которого они весьма гордо именовали "единственным".
Красота его жены была такова, что ты никак не мог сообразить -
всамделишная ли женщина перед тобой или нет. Когда я сидел рядом с ней,
меня все время так и подмывало схватить ее за руку или за плечо, а не то
наступить на ногу, чтобы убедиться, что она все же не кукла. Ее участие в
общей беседе ограничивалось двумя восклицаниями: "О, какая прелесть!" и
"О, какая гадость!" Вначале она показалась мне скучной, но потом я вошел в
азарт и начал болтать с ней обо всем на свете; казалось, я бросаю в
автомат монетки для того, чтобы узнать, что выдаст этот автомат. Я сообщил
госпоже Калик, что у меня только что умерла бабушка - это было явной
неправдой, так как моя бабушка умерла уже двенадцать лет назад, - и в
ответ услышал: "О, какая гадость!"; когда люди умирают, говорится много
разной чуши, но, по-моему, никто еще не додумался воскликнуть: "О, какая
гадость!". Потом я сказал ей, что некий Хумело (никакого Хумело я не знал,
я тут же выдумал его, чтобы бросить в автомат какое-нибудь радостное
сообщение) получил почетного доктора, и она сказала: "О, какая прелесть!"
Наконец, я объявил, что мой брат Лео перешел в католичество, мгновение она
колебалась - и я расценил это чуть ли не как проблеск сознания, - а потом
вскинула на меня свои большие стеклянные кукольные глаза, чтобы выяснить,
к какой категории я сам причисляю это событие, и воскликнула: "О, какая
гадость, не правда ли?"; все же я вынудил ее несколько видоизменить свою
формулу. Я посоветовал ей опускать слова "О, какая" и говорить просто
"прелесть" или "гадость"; она хихикнула, подложила мне еще спаржи и только
потом сказала: "О, какая прелесть!" В тот же вечер мы познакомились с тем,
кого они гордо именовали "единственным", - с их пятилетним парнишкой; его
хоть сейчас бери и показывай по телевидению в рекламной передаче. Малыш
улыбнулся улыбкой, рекламирующей зубную пасту, и сказал: "Спокойной ночи,
папочка!", "Спокойной ночи, мамочка!", шаркнул ножкой перед Марией,
шаркнул ножкой передо мной. Удивительно, почему отдел рекламы телевидения
до сих пор не открыл его. Позже, когда мы, сидя у камина, попивали кофе с
коньяком, Герберт заговорил о великом времени, в котором мы живем. Он
принес еще бутылку шампанского и впал в патетический тон. Попросил у меня
прощения и даже встал на колени, дабы получить, как он выразился,
"отпущение грехов без церкви"; я с трудом удержался, чтобы не дать ему
пинка в зад, вместо этого я взял со стола нож для сыра и торжественно
посвятил его в демократы. Жена Калика пискнула: "О, какая прелесть!",
растроганный Герберт снова сел на свое место, а я произнес речь о
"пархатых янки".
фамилия, происходит от слова "шнырять", но теперь доказано, что она
происходит от слов "шнуровать", "шнур", а не "шнырять". Одним словом, я не
"пархатый" и не "янки", но все же... - И тут вдруг я залепил Герберту
пощечину, потому что вспомнил, как он заставил нашего однокашника Геца
Бухеля доставать себе справку об "арийском происхождении", вспомнил, в
какое тяжелое положение попал Гец: его мать, итальянка, была родом из
деревушки в Южной Италии, и раздобыть там какой-нибудь документ о ее
родичах, хотя бы отдаленно напоминающий справку об арийском происхождении,
оказалось невозможным, тем более что деревушку, в которой родилась мать
Геца, заняли к тому времени "пархатые янки". Несколько недель госпожа
Бухель и Гец находились в мучительном положении, над их жизнью нависла
угроза, пока наконец учителю Геца не пришла в голову мысль привлечь в
качестве эксперта какого-нибудь специалиста по расовому вопросу,
профессора боннского университета. Специалист установил, что Гец - "чистый
ариец, хотя и чисто западного склада", но тут Герберт Калик завел новую
канитель насчет того, что все итальянцы предатели, и у Геца до самого
конца войны не было ни одной спокойной минуты. Все это я вспомнил, когда
начал читать лекцию о "пархатых янки"... и дал Герберту Калику по морде,
швырнул в камин свой бокал от шампанского, а следом за ним и нож для сыра,
схватил Марию за руку и потащил ее из дома. Там, на Эйфеле, мы никак не
могли достать такси, пришлось довольно далеко идти пешком к остановке
автобуса. Мария плакала и сквозь слезы повторяла, что я поступил не
по-христиански и не по-человечески, но я ответил, что не собираюсь быть
христианином и не нанялся отпускать грехи. Потом она спросила меня,
неужели я сомневаюсь в том, что Герберт переменился и стал демократом.
наоборот... просто я его не перевариваю и никогда не смогу переварить.
подходящем настроении, чтобы побеседовать с ним по телефону. Я вспомнил,
как спустя некоторое время встретил Калика еще раз на "журфиксе" у нас
дома, - он взглянул на меня умоляюще и покачал головой: он как раз
беседовал с еврейским раввином о "высоких умственных способностях евреев".
Мне стало жаль раввина. Это был глубокий старик с белой как лунь бородой,
видимо, очень добрый, его простодушие обеспокоило меня. Ну, конечно же,
Герберт, знакомясь с новыми людьми, сообщал им, что был нацистом и
антисемитом до тех пор, пока "история не открыла ему глаза". А между тем
всего за день до вступления американцев в Бонн он муштровал мальчиков в
нашем парке, приговаривая; "Как только где-нибудь покажется пархатая
свинья - бросайте гранату!" На этих мамашиных "журфиксах" меня больше
всего волновала доверчивость бывших эмигрантов. Всеобщее раскаяние и
громогласные декларации в защиту демократии приводили их в такое умиление,
что братаниям и объятиям не было конца. Они никак не могли понять, что
тайна злодеяний заключена в мелочах. Легче легкого покаяться в чем-нибудь
большом, будь то политическая ошибка, супружеская измена, убийство или
антисемитизм... Но разве может человек простить, если он знает все до
мелочей, - знает, как Брюль и Герберт Калик взглянули на отца, когда он


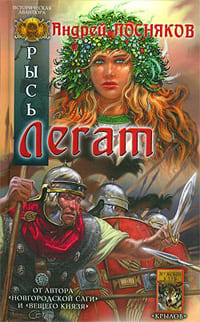



 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Круз Андрей
Круз Андрей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Круз Андрей
Круз Андрей