пфеннигов, и свинья Лео жалуется на то, что завтраки стали хуже, что яйцо
ему подают очень мелкое, и обвинил Генриха в _хищении денег_. Вот это
волнует - _ненависть_ к этой обезьяне, ко всему еще и _глупой_. Пришлось
сунуть ему под нос все расчеты, чтобы он сам мог убедиться, но слово-то
осталось: _хищение_. И мать - Генрих пристально наблюдал за нею - _на
какое-то мгновенье_ поверила Лео, правда, всего лишь _на мгновенье_, но и
мгновенья достаточно. Ему приходилось экономить - потому что они подолгу
бывали на улице, а Вильме не покупали платья. _Хищение_, и никому не
расскажешь это. Мартин - тот бы вовсе ничего не понял, а с дядей Альбертом
он пока стеснялся говорить. Когда-нибудь потом он это сделает, ведь дядя
Альберт единственный, кто может понять, что значит для него такое
обвинение. Он отомстил просто и жестоко. Две недели он не брался за
домашние дела, отказался делать покупки: пусть мать сама покупает, пусть
Лео побеспокоится об этом, пусть сам увидит. Не прошло и недели, как все
хозяйство пошло к черту, в доме нечего было жрать; мать ревела. Лео
скрежетал зубами, и, наконец, оба в один голос стали умолять его снова
заняться хозяйством - и он занялся, но так и не забыл того _мгновенья_,
когда мать заподозрила его.
когда-нибудь потом, на каникулах, когда они поедут с Альбертом к его
матери, где Билль станет присматривать за Вильмой; там найдется случай
поговорить с Альбертом про невыносимое слово "хищение". Чудачка Больда -
очень добрая женщина, но с нею тоже нельзя говорить о деньгах, а мать
Мартина отличается от его собственной матери только тем, что у нее есть
деньги, правда, тут еще и то, что она очень красивая, на свой лад красивее
даже его мамы, такая, как женщины в фильмах, но в деньгах она ничего не
смыслит. Говорить о деньгах с бабушкой неудобно: она тут же вытащит свою
чековую книжку. Все они дарили ему деньги - Альберт, бабушка, Вилль, мать
Мартина, но и от денег лед не становился крепче и глубина воды оставалась
такой же неизмеримой. Конечно, можно сделать маме какой-нибудь подарок -
сумочку из красной кожи и к ней красные кожаные перчатки, какие он видел у
одной женщины в кино, можно купить что-нибудь и для Вильмы, можно пойти в
кино, поесть мороженого, пополнить домашнюю кассу и при этом принципиально
ничего не покупать для Лео и принципиально не дать ему почувствовать
никаких улучшений. Но денег все равно не хватит, чтобы купить дом и все с
ним связанное, чтобы обрести чувство уверенности, сознание, что ты не
ходишь больше по льду, а главное, ни за какие деньги не купить того, что
отличает дядю Альберта от дяди Лео.
Карл "новая жизнь": красивые слова, с ними у Генриха связано даже
определенное представление, которое - он знал это - никогда нельзя
осуществить. Лицо матери округлилось и в то же время стало жестче, она все
дальше уходила от отца, становилась старше отца, а сам он постепенно
догонял отца. Мать была теперь старой, бесконечно старой казалась она ему,
а ведь совсем недавно, когда она впервые танцевала с Лео, когда в больнице
освободилась от "него", мать казалась ему совсем молодой. И рука ее стала
тяжелее, рука, которой по вечерам она торопливо гладила его лоб, прежде
чем перейти в комнату к Лео, чтобы сожительствовать с ним.
уже два года, и она почему-то всегда грязная. Лео ненавидит грязь; Лео
такой чистюля, его за версту можно узнать по запаху туалетной воды и
помады. Руки у него до красноты натерты щеткой, ногти отполированы, и
наряду с кондукторским компостером он в качестве оружия применял пилку для
ногтей - нескладную длинную железку. Этой железкой он бил Вильму по
пальцам. Каждое утро Генрих разогревал воду, чтобы помыть Вильму, как
можно чаще менял ей белье, но Вильма почему-то всегда казалась грязной,
измазанной, хотя это была умная и милая девочка. Было от чего прийти в
отчаяние.
попечении, потому что мать уходила теперь в пекарню к половине первого, и
с тех пор, как Вильма впервые осталась одна с Лео, она, едва завидев его,
начинала вопить. Стоило Лео угрожающе поднять свои никелевые компостерные
щипцы, чтобы припугнуть девочку, как она заходилась в плаче, с ревом
бросалась к Генриху, цеплялась за него и не успокаивалась, пока Лео не
уйдет, да и то еще Генрих должен был несколько раз повторить ей: "Лео нет,
Лео нет, Лео нет". Но слезы все текли по ее лицу и заливали руки Генриха.
После обеда чаще всего он оставался с нею один, и девочка вела себя
спокойно, совсем не плакала, а еще лучше было по вечерам, когда Лео с
матерью уходили на танцы. Генрих тогда извещал Мартина, который соглашался
бывать у них только в отсутствие Лео, - он боялся Лео не меньше, чем
Вильма, - и они вместе купали девочку, кормили ее и играли с нею. Не то
просто оставляли Вильму в саду у Мартина, а сами играли в футбол. В такие
вечера Генрих с Вильмой одни укладывались спать, и он про себя шептал
вечерние молитвы и думал о всякого рода дядях. Вильма, засунув палец в
рот, чистенькая, умытая, засыпала рядом с ним. Когда у него самого
начинали слипаться глаза, он переносил Вильму в ее постельку. А в соседней
комнате мать сожительствовала с Лео - он ничего не слышал, но знал все,
что там происходит.
всегда колебался между Карлом и Гертом. Карл был приветлив и аккуратен.
Карл - "новая жизнь", Карл - "дополнительный паек". Карл, от которого
пахло супом из столовой магистратуры, Карл, оставивший у них брезентовую
сумку для алюминиевых обеденных судков, в которую Вильма складывала теперь
свои игрушки. К тому же Карл умел делать подарки, как и Герт, - тот
приходил по вечерам с ведерком из-под повидла и вываливал на стол весь
свой инструмент - кельму, шпатель, фуганок, ватерпас - и свой дневной
заработок, который ему всегда платили натурой: маргарин, хлеб, табак,
мясо, муку и даже иногда яйца - вещь дивного вкуса, чрезвычайно редкую и
дорогую в те времена. И мать смеялась больше всего во времена Герта. Герт
был молодой, темноволосый и не прочь был сразиться с ним в лото и в фишки.
Когда гасили свет, Генрих часто слышал, как мать и Герт смеются, лежа в
постели, и этот смех не казался ему неприятным, в отличие от глупого
хихиканья матери при Карле. О Герте сохранились такие хорошие
воспоминания, что даже мысль о его сожительстве с матерью не омрачала их.
У Герта оставалось темно-зеленое пятно на рукаве мундира, там, где раньше
были ефрейторские нашивки, а по вечерам Герт подторговывал алебастром и
цементом - он продавал их на фунты; развешивая, он набирал алебастр и
цемент кельмой из бумажных мешков - как муку.
ходил в церковь. Карл и его брал с собой, объяснял ему всю церковную
службу и молитвы, а по вечерам после ужина надевал очки, и начинались
рассуждения о "новой жизни". Исповедоваться он, правда, не ходил и к
причастию - тоже, но в церкви он бывал и на все умел дать ответ. Карл был
серьезный, дотошный, но приветливый и дарил конфеты, игрушки, и, когда
Карл говорил: "Мы начнем новую жизнь", он всегда после этого добавлял:
"Видишь ли, Вильма, я хочу как-то упорядочить нашу жизнь, понимаешь,
упорядочить", к упорядочению относилось и то, что Генрих должен был
называть его папой, а не дядей. Или взять Эриха - настои со странным
запахом, уксусные компрессы, зажигалка, которая до сих пор не сломалась.
Эрих остался в Саксонии. А Герт в один прекрасный день просто не вернулся,
и они долго о нем ничего не знали, пока через несколько месяцев не
получили письмо из Мюнхена: "Пришлось уйти, я не вернусь. Мне было хорошо
с тобой, оставляю тебе на память свои часы". В памяти сохранился запах
сырого алебастра, а в лексиконе матери оставшееся от Герта слово "дерьмо".
И Карл тоже ушел, потому что мать избавилась от "него". Никакой "новой
жизни" так и не получилось, он до сих пор иногда встречал Карла в церкви.
У Карла были теперь жена и ребенок такого же возраста, как Вильма, по
воскресеньям он гулял, ведя малыша за руку. Но Карл, казалось, совсем
забыл и Генриха и мать, он с ними не здоровался. Теперь Карл ходил к
причастию, и даже с некоторых пор он первым запевал в церкви молитвы, и
когда с хоров раздавался голос, говоривший прежде о "новой жизни", о
"дополнительном пайке", о "порядке", Генрих не мог понять, зачем мать
избавилась от "него". Карл теперь был бы его отцом.
карандашом слово, которое мать сказала кондитеру. Неизвестно было, кто
этим занимается. Иногда это слово оставалось на стене весь день, но к
вечеру оно исчезало, потому что приходил столяр, у которого под лестницей
была маленькая мастерская, соскребал это место гвоздем, и на каменных
плитках пола оставался белый след от осыпавшейся штукатурки, а на стене -
глубокие царапины. Но неизвестный опять писал это слово, а столяр опять
соскребал его. Стена подъезда была уж исцарапана в двадцати местах. Это
была немая борьба, и обе стороны вели ее с одинаковым упорством - снова и
снова появлялось на стене это слово, и столяр, от которого пахло камфорой,
как когда-то от Эриха, выходил из мастерской с сорокадюймовым гвоздем и
соскребал его. Столяр был прекрасным человеком. Особенно хорошо относился
он к Вильме: по субботам, когда ученик подметал в мастерской, столяр
приказывал ему выбирать из мусора все деревянные чурки, отмывать их и
относить Вильме, и особенно длинные и кудрявые стружки тоже отдавать ей, а
сам столяр, когда собирал деньги за квартиру, приносил Вильме конфеты.
что Лео отвечал: "И я вам тоже". Больше они друг с другом не
разговаривали.
раньше, что слово на стене пишет Лео; только он и мог это делать, да и
слово то было из его лексикона. Генрих стал следить за Лео, когда тот
уходил на работу или возвращался с работы домой. Лео ничего не писал. Но
зато и слово в те дни, когда он наблюдал за Лео, на стене не появлялось.
Слово появлялось только тогда, когда он не мог проследить за Лео. История
эта тянулась довольно долго, уже полстены было в скребках и царапинах.
Как-то раз, вернувшись из школы и опять увидев в подъезде надпись, он






 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс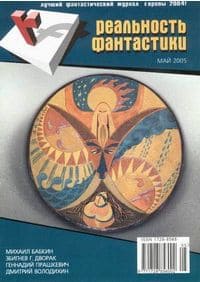 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий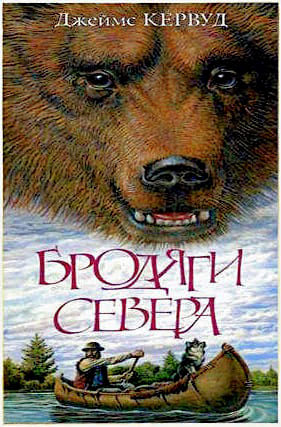 Кервуд Оливер Дж.
Кервуд Оливер Дж. Флинт Эрик
Флинт Эрик