по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев
на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы
экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотину, каменно
опустившие головы, недвижные среди остывших полей, кусты мокрого вереса на
взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных
людей, -- все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной
покорности долгому непогодью и холодной, пустой поре.
сползшей крышей, бабенки, большей частью старухи, жались спинами к щелястым,
прелым, но все еще теплым бревнам. Завидев Сошнина, они встрепенулись,
загалдели все разом: "Злодей! Злодей! Нет на него управы. Вечный арестант и
бродяга... Мать со свету свел... Он с детства экий..."
пальтишко, пиджак и, оставшись в фиолетовой водолазке, пижонски обтянувшей
его от безделицы полнеющую фигуру, подпрыгнул, ухватился за низшую слегу
телятника, взобрался на крышу, перебираясь рукой по решетиннику, спустился
на потолок из круглого жердья, отодвинул пяток отесанных и загнанных в паз
прогнутой матицы жердин, спрыгнул в помещение с едва теплящимися в проходе
под потолком желтыми электролампочками, спрыгнул неловко, ударился больной
ногой о выбоину в половице, приосел на скользкую жижу, запачкал брюки.
никотинно светящейся жиже, стояли и тупо глядели на пришельца несколько
больных телят, не мычали, корма не просили, лишь утробно кашляли, и
казалось, само глухое, полутемное пространство скотника выкашливало из себя
в сырую пустоту пустой же вздох без стона, без муки. Ни к чему и ни к кому
эти старчески хрипящие животные не проявляли никакого интереса, лишь вдали,
где-то в заглушье, подал вялый голос теленок и тут же смолк в безнадежности,
послышался едва слышный хруст, будто короед начал работать в бревне, под
заболонью: теленок, догадался Сошнин по изгрызенным жердям перегородок,
кормушек и стен, грыз прелое дерево скотника. Еще один теленок, сронив
жердочку, вышел из размичканного в грязь загончика, лежал на склизкой
тесине, а другой теленок, свесившись через перегородку, сосал или жевал его
ухо, пустив густую, длинную слюну.
нагребен был навоз, Сошнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там,
насмерть перепуганных женщин. Они завыли в голос и, обгоняя друг дружку,
бросились из телятника в противоположную, приоткрытую дверь, возле которой
на стоге свежепахнущего сена, утром привезенного на березовых волокушах с
лесной деляны, безмятежно спал Венька Фомин.
Фомин долго на него пялился, моргал, утирал рот рукой, не понимая, где он,
что с ним?
ломаным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных
навозом, и среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболевших,
стариковских зубьев.
словно пехотинец с винтовкой в бою.
чем весьма его озадачил.
Фомин, пятясь к задним полуоткрытым воротам телятника, чтоб, бросив вилы,
ушмыгнуть в притвор, скрыться в родных полях и перелесках.
Фомин был телом и лицом испитой, в ранних глубоких морщинах, подглазья --
что голые мышата с лапками, пена хинным порошком насохла в углах
растрескавшихся губ. Больной, в общем-то, уже пропащий и жалкий человек. Но
пакостный, зло пакостный, и от него можно ждать чего угодно.
руку наперехват.
загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал
бы по шее разок -- за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок, на
автобус, да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сенной
трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви -- яловым сапогам, к двум
твердым, пружинистым ногам, Сошнин в узконосых штиблетах поскользнулся
хромой ногой, неловко упал на руку -- и сработала, сработала подлая натура
лагерника -- бить лежачего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сошнин
мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок
как бы нехотя с хрустом вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька
Фомин по-шакальи оскалившись, надавил на вилы, приколол Сошнина к коричневой
гнилой плахе.
выдернуть. Боль пронзила его, повязалa.
перепуганный Венька Фомин, вытирая разом вспотевшее лицо и губы запястьем
руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью с треснувших губ, застревалa
в реденькой беспородной щетине Веньки Фомина.
несколькими малосильными рывками, молниями рассекавшими голову Сошнина,
выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце сгустки крови, нечистые
сгустки на нечистом, словно пластилином облепленном, зубце, пошатнулся,
зажал рукой брызнувшую кровь, уперся лбом в стену, тоже пахнущую мочой и
тошнотворным силосом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок, сyнyл
его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся
кровью платок скользко понесло с плеча на живот.
ему затасканный, серый комочек. -- Чтo ж ты наделал, скотина! -- простонал
Сошнин, бросая грязную тряпицу в плаксиво-угодливую морду Веньки Фомина, и
кинулся на свет, зажимая рану.
по грязи Сошнина и Веньку Фомина, подумали, что бандюга гонится за
человеком, чтобы его зарезать, завыли в голос. Надо было вернуться к
телятнику, надеть пиджак, пальто, надо было бежать в Полевку, просить
Маркела Тихоновича запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на
силосных ямах, а то и на жнивье пасется, начнут всем полевским народом
причитать, ловить, запрягать, потеряется дуга или хомут, у телеги вывалится
штырь, колесо спадет среди грязи с оси, завязнут на выезде или средь
проселка. У Маркела Тихоновича "к груде подопрет", сама Чащиха, как всегда,
выступать примется, отыскивая врагов, Светку перепугают и, чего доброго, с
собой возьмут...
к поясу. Кровь пропитала водолазку, ожгла бедро, зачавкала в левой
штиблетине. У раненого начали обсыхать губы, во рту появился привкус железа.
"Так быстро! Худо мое дело..."
тощей шее -- видел в кино или на фотографиях, недоумок, как выносят раненых
с поля боя.
тюряги, видно, мне никуда и не уйтить. Доля моя, пала, пропащая... -- С
Веньки Фомина катился слабосильный пот. В немощных грязных струях пота
дрожала сенная труха, и, когда касалась губ, он слизывал грязную смесь и,
забыв ее сплюнуть, глотал горечь, продолжая выть и при читать.
глазами. Его мутило от запаха Венькиного грязного пота, от дури назьма, от
горькости сена, душило скипидарной остротой телячьей мочи или человечьей --
разбойник Венька Фомин, жравший всякую всячину, вплоть до разведенного
гуталина и пудры, давно сжег почки и ходил в прелых портках. Запахи не
слабели, не рассасывались на холодном ветру, наоборот, все плотнее окружали
Леонида, клубились над ним и в нем, поднимая из разложья груди поток рвоты.
Воскресенье. Злодей и пострадавший постояли в обнимку перед дверью,
прерывисто дыша, обреченно глядя на замок. Венька усадил Сошнина на
крылечко, прислонил к стене, заботливо набросил на него свою, псиной
пропахшую, телогрейку.
егеря выташшу, коли он на ей охотничат... Чичас, чичас...
уже была, и, как положено равноправной женщине, в усладу использовала
воскресный день -- стирала, мыла, прибиралась. И в медпункте у нее был
полный порядок, и лекарства необходимые были: йод, бинты, вата, даже спирту
пузыречек не выпит. И сама фельдшерица чиста, обиходна, хоть заметку про нее
пиши в газету. Хвалебную. Вот выздоровеет и напишет! -- этот вялый проблеск
юмора последний раз посетил в тот день всегда склонную к иронии, последнее
время -- самоиронии, творчески настроенную голову иль душу Сошнина.
него склонность к легкому настроению, которым пострадавший пытался подавить
в себе страх, слабо надеясь, что положение его не столь уж и опасно, чтоб
впадать в панику.
задета. Кто это вас? Неужто ты, недоносок?! -- воззрилась фельдшерица на


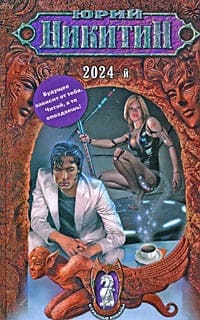
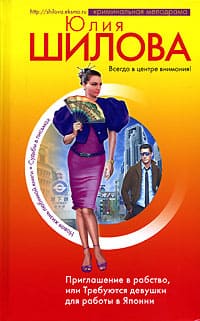

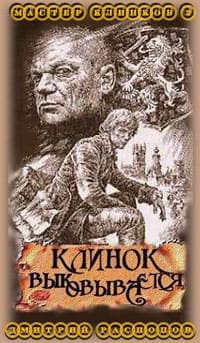
 Маркеев Олег
Маркеев Олег Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Каменистый Артем
Каменистый Артем Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Корнев Павел
Корнев Павел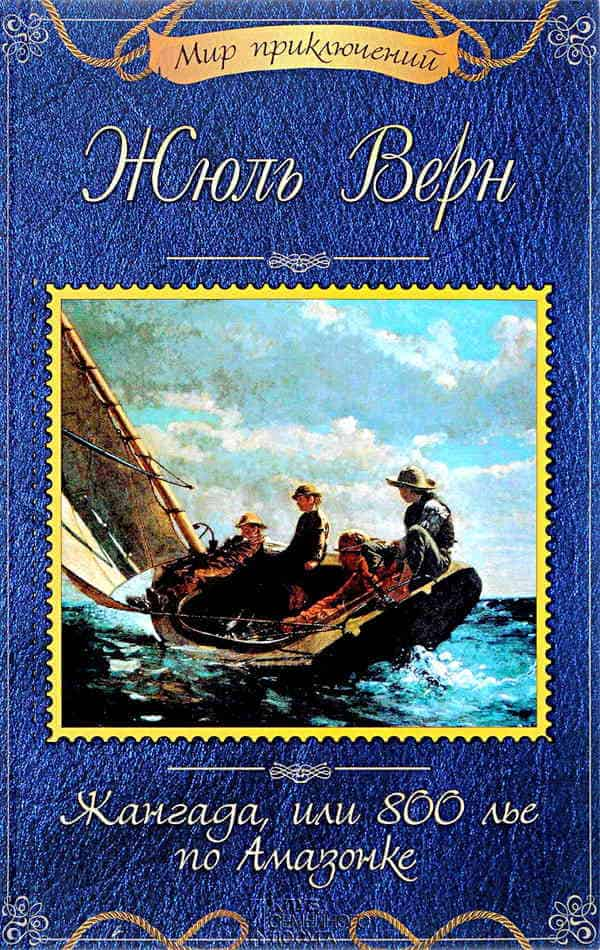 Жюль Верн
Жюль Верн