некому запрещать мокретью брызгать -- тоже полная свобода! Закрыл кран,
поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто
пожалел, вытянулся на диване, уставился в потолок. Тоска не отпускала. И
боль терзала плечо, ногу. "Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под
лестницу... Такие все могут..."
Пьяный, как потом выяснилось, только что с Крайнего Севера прибывший с
толстой денежной сумой "орел" нажрался с радости, подвигов захотелось -- и
увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, --
на площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в
центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, посадили цветочки, и
сколько уж из-за нее, из-за этой, вейскими дизайнерами созданной эстетики,
народу пострадало: не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух
человек изувечил, одного об будку убил и, вконец ошалев, запаниковал, ослеп,
помчался по центральной улице, на светофоры, в мясо разбил на перекрестке
молодую мать с ребенком.
"отжимали" от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь,
что, может, врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сошнин и Федя
Лебеда, загнали было дикую машину во двор, угонщик заметался по песочному
квадрату, в щепу разнес детскую площадку -- хорошо, детей не было в тот час
во дворе. Но уже на выезде сшиб двух под руку гулявших старушек. Будто
бабочки- боярышницы, взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие
крылышки на тротуаре.
ведь надо в живого человека! Мы запросто произносим, по любому случаю: "Так
бы и убил его или ее..." Поди вот и убей на деле-то.
Выгнали самосвал за город, все время крича в мегафон: "Граждане, опасность!
Граждане! За рулем преступник! Граждане..."
новое загородное кладбище. Глянули -- о, ужас! Возле кладбища сразу четыре
похоронные процессии, и в одной процессии черно народу -- какую-то местную
знаменитость провожают. За кладбищем, в пяти километрах, -- крупная
строительная площадка, что мог здесь наделать угонщик -- подумать страшно. А
он совсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за сто
километров.
он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя Лебеда
оттянул предохрани- тель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил
одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась. Машина
заприхрамывала, забренчала. Сошнин, закусив губу, надавил до отказа на газ
мотоцикла.
тут же в бессилии опустил руку.
новостройки загородят дорогу -- там пост!..
последней надежде на бескровное завершение дела.
будто тяжелую гирю, поднимал Федя Лебеда привычный пистолет. Губы шлепали,
вытряхивали с мокром:
сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая
всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон:
подножкой. Сошнин был водителем-асом, но что-то произошло с ним необъяснимое
-- он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся
звон, небо и земля начали багроветь, впереди забегали и куда-то, за какой-то
край посыпались люди из похоронных процессий.
промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась
носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сошнин
успел увидеть шарикоподшипником выкатившийся из затылка, чуть обросшего,
упрямо-тупого затылка кругляшок, еще кругляшок, быстрей, чаще, будто с
конвейера покатились, вытянулись в красную нитку, шея, плечи, новая, на
Севере, с корабля, видать, купленная куртка, вся в карманах, чем-то туго
набитых, быть может, письмами матери, может, и любимой девушки. Был еще
значок на куртке. Яркий значок за спасение людей на пожаре. И вот куртка
сделалсь красной на плечах и на спине, что значок за отличие на пожаре.
Скореженный, смятый, он лежал затем в машине "скорой помощи", рядом с
застреленным угонщиком и слышал, как под носилками по железному полу
плещется, скоблит уши их вместе слившаяся кровь.
железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройки при пятерочных
способностях, Гришуха Перетягин успел когда-то полностью оформиться в
доктора, был сед, медлительно-спокоен и, как показалось Сошнину, несколько и
поддатый.
прикажете, гражданин начальник?
мной не пропадет, Гришуха. -- Разрешая недоуменный взгляд доктора, еще
добавил: -- Я ж тоже наш брат-железнодорожник... тети Линин племяш.
коли с железнодорожного, да еще наших, вятских, кровей -- и одной жилы
достаточно... А я смотрю, вроде как знакомое лицо, понимаш... -- наговаривал
Гришуха и делал какие-то знаки сестре и няне. -- Дак не пропадет за тобой,
говоришь? Заметешь и домой не отпустишь, хе-хе-хе...
чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент сделается мертвецки пьян,
поболтал еще с ним о том, о сем и приступил к делу. Во время операции
Сошнину поднесли еще мензурочку. Он пил спирт, будто воду, очень холодную,
родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, долго потом сипел горлом.
свойски посмеивался на обходах:
При-иро-сло-о-о, понимаш! Еще на нас, на вятских, наркоз тратить, кровь
переливать. Наркоз вредный, крови в запасе мало, нас, вятских, много.
Слушай, ты че, и правда чистый спирт не пил? Н-н-ну, понимаш! Тоже мне,
миленький легавенький, красивый, кучерявенький! Таких хлюпиков надо гнать в
шею из органов.
плотнее налег на немецкий язык, начал марать бумагу чернилами. Сперва писал
объяснительные, много и длинно, потом заготовил краткую, похожую на рапорт,
бумагу и отделывался ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем
Антоном Пестеревым.
всех знал, видел насквозь.
в молодяжку, еще и жизни не видавшего, неужели не могли с ним справиться,
задержать без выстрелов и крови? -- прокалывая Сошнина узким лезвием глаз,
явно подражая какому-то несокрушимому, железному кумиру, цедил сквозь зубы
Пестерев.
кто был? Сошнин. Вот и отчитывайся, майся. Леонид сперва сдерживался,
пытался что-то объяснить Пестереву, потом вскипел:
отвернулся, -- Растерзанные... пыль, кровь, замешано... багровая грязь. Я в
любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму!
милицию попал?
сохранилось мальчишество в Сошнине. Он похлопал Антона Пестерева по
форменному мундиру работника правосудия. -- Это тебе не мама родная! От
этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься! -- Да с тем и ушел,
озадачив борца за справедливость до того, что он звонил Сошнину, домогаясь,
что за намеки?
от его родной деревни, в сельце Полевка, жила теща Сошнина, Евстолия
Сергеевна Чащина, и она-то уж воистину знала все и про всех, может, не во
вселенском, даже и не в областном масштабе, но на хайловскую округу ее
знания распространялись, и от тещи Сошнину сделалось известно, что в
Тугожилино четыре года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на
похороны, даже и невестки, и зятья съехались, и дальние родственники
пришли-приехали, но младшенький, самый любимый, прислал переводом пятьдесят
рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив,




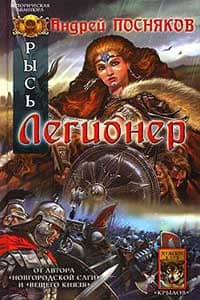

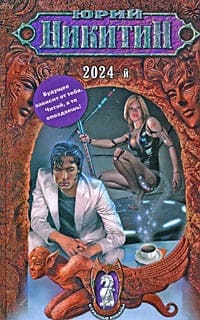 Никитин Юрий
Никитин Юрий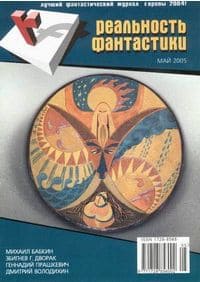 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Белоусов Валерий
Белоусов Валерий Посняков Андрей
Посняков Андрей Махров Алексей
Махров Алексей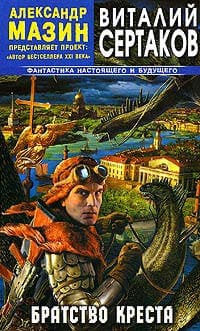 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий