обратил внимание, что два танка в шеренге вдруг замедлили ход, и торчавшие
из башенных люков головы и плечи командиров сразу же исчезли, и захлопнулись
крышки люков. Полной остановки не было, но так как все двигалось и обгоняло
их, как стоячих, то и показалось, что они стоят. Это длилось не более
четверти минуты танки, шедшие следом, плавно их обогнули, а там и те два
тоже двинулись и еще до подхода к Василию Блаженному выровняли строй. И,
может быть, у кого-то из зрителей крохотная эта заминка оставила впечатление
изящного, заранее отработанного маневра, - но, верно, не у военных. А у
Кобрисова екнуло и заныло сердце.
После парада он вызвал к себе командиров, выслушал их объяснения о том,
что вдруг начались перебои в двигателях, и они приспустились узнать, в чем
дело, и, может быть, помочь водителям восстановить ход. Все было просто,
ясно, понятно, а тем не менее оставило в Кобрисове неприятный осадок, и он
не рассеивался от новых забот, но оставался где-то глубоко, в виде
покалывания или ноющей боли. Было особенно неприятно, что тем и начнется его
служба в Москве.
На двенадцатый день пришли за ним в номер. Постучались сразу после
восьми утра, когда он, выбритый и освеженный одеколоном, надевал фуражку
ехать в свой штаб, и, когда открыл - стояли двое в коридоре, вежливо взяли
под козырек, сказали, что машина ждет, но шофер заболел и повезет другой,
один из них. А почему двое их, новый шофер просил извинить, что подкинет
дружка в одно место неподалеку. Долго потом терзало генерала, что он мог бы
и догадаться, да ведь и догадался, почувствовал же первоначальным звериным
чутьем какую-то игру, но вместе и странное оцепенение - от слишком обидной
мысли, что с ним могут обойтись так немудряще, так унизительно просто.
Впрочем, уже в машине играть перестали, сказали, что место, куда подкинут
генерала, такое, что вся Москва перед ним трепещет и каждый старается
побыстрее пройти мимо, даже не посмотреть на эти ворота, к которым вот как
раз и подъехали. И, словно бы эти слова были паролем, глухие безглазые
ворота раскрылись, пропустили машину и тут же захлопнулись. Генералу еще
услужили - "дружок", выскочив первым, раскрыл ему дверцу.
Через каких-нибудь полчаса он был обыскан, лишен ремня и кобуры,
бумажника с документами и фотографиями жены и дочек, часов, ключей и даже
алюминиевой расчески, и обмакнутые в черную краску пальцы ему прокатывали по
бумаге. А следом подвергся и "физиологическому обыску", то бишь предстал
голый перед громадной бабой в белом халате, с белым пустым лицом, на котором
глаза располагались выше, чем следовало, а рот - малость ниже. Величиною она
была с памятник Екатерине в Питере, купно с его пьедесталом.
- Ко мне спиной, - командовала она хоть и грубым, но все же бабьим
голосом. - Нагнитесь. Раздвиньте ягодицы.
- Да что я там могу спрятать? - вскричал генерал.
- Ко мне лицом, - говорила женщина-памятник. - Поднимите половые
органы.
- Батюшки, неужто и тут прячут?
Он еще пытался корявыми шутками побороть стыд, довольно неожиданный в
человеке военном, ежегодно проходившем медкомиссию, в составе которой были и
женщины, подчас хорошенькие. Как ни странно, а перед ними предстоять в чем
мать родила он стыдился куда меньше, там все смягчалось легкой игрой, с ними
и пошутить было приятно, и на темы пикантные, этими шуточками перекликалось
Божье братство полов, так пленительно меж собою враждующих. Вот чего не было
там - брезгливого равнодушия к твоему стеснению. И тело твое не
рассматривалось с той точки зрения, что и куда можно в нем спрятать.
Интересно, когда бы он успел, арестованный внезапно и все время бывший под
присмотром?
- Одевайтесь, - сказала пустолицая.
В обыскном боксе ему выбросили его гимнастерку с отпоротыми петлицами и
срезанными пуговицами и тоже без пуговиц галифе, которые он должен был
придерживать руками. Впрочем, надзиратель дал ему с полметра шпагатика и
показал, как одним концом обвязать верхний угол ширинки, а другой конец
продеть в пуговичную петельку. Он же, сердобольный, объяснил, почему нельзя
пуговицы - чтоб не заточил о каменный пол и не взрезал себе вены. Сапог ему
тоже не вернули, а дали шлепанцы без задников, они постоянно спадали с ног,
так что ходить нужно было в них, не отрывая от пола, со стариковским
шарканьем. И такого, потерявшего вместе с формой нечто весьма важное для
человека военного, который себя и в штатском костюме чувствует не совсем
ловко, ввергли в одиночную камеру и с грохотом заперли.
В отличие от многих и многих, генерал Кобрисов не счел свой арест
ошибкой, тогда как все другие арестованы правильно их уже слишком было
много, правильно арестованных, чтобы не понять, что все отличие его состояло
в том, чем всегда отличается твоя боль от боли чужой, - твоя больнее. Но в
эти часы ареста у него возникло ощущение какого-то огромного разветвленного
заговора, охватившего всю страну некие силы, дотоле скрытые, вышли из своих
укрытий и одержали верх и вот скоро повергнут наземь и придавят сапогом всю
могучую структуру государства, все его службы и ведомства, вплоть до
Политбюро и самого Вождя. И не нашлось во всем народе силы противостоять
повальному изничтожению, потому что заговорщики действовали умно: они начали
с главного звена, захватили службу безопасности и сделали ее своей отмычкой
ко многим дверям, душам и умам, а затем они обезглавили и обескровили армию.
А она единственная и могла спасти страну от этого внутреннего - а может
статься, и внешнего? - нашествия. Знал ли про все это Вождь? Вполне
возможно, что и не знал, они достаточно были хитры. А могло и так быть, что
знал, но оказался беспомощной жертвой их, игрушкой, которой они вертели, как
им было угодно.
И в первый же вечер началось ужасное. За стеной послышался бычий рев
мучимого человека, с которым непонятно что делали, при этом терпеливо, почти
ласково в чем-то убеждая. Не скоро, из многих бессвязных криков, генерал
постиг, что его соседу уже пятые сутки не давали спать. После ночных
допросов он валился на пол, но тут же гремело веко глазка и врывались
надзиратели его поднимать. Чувствовался человек большой телесной силы,
которая его и обрекала на беспомощность, не давала впасть в спасительное
беспамятство, чтобы не слышать пинков и шлепков по лицу и та же могучая
плоть требовала могуче хоть получаса, хоть пяти минут сна. "Вот это, -
сказал себе Кобрисов, - и с тобой проделают". А с ним это уже и проделывали.
Не по случайной ошибке поместили его в таком соседстве, и не затем только,
чтоб этими ревами и ласковыми пришепетываниями ему самому расстроить сон. С
ним еще ничего не сделали наружно, не тронули пальцем, но внутри него точно
бы происходила химическая реакция, в которой одним компоненты соединялись, а
другие распадались на составные частицы, и все приходило к тому, что
вещества конечные были уже с другими свойствами, чем изначальные.
На четвертый день сочли, что он вполне созрел для встречи со
следователем. И верно, созрел - поднявшегося ему навстречу старшего
лейтенанта, с тонким лицом, с аккуратным пробором в светлых волосах, который
с достоинством его поприветствовал глубоким кивком и четко представился:
"Опрядкин Лев Федосеевич", - он принял едва не за избавителя и обратился к
нему с жалобой, что не может нормально спать. Так сделал он крупную ошибку -
и выказал свою слабость, и пожаловался неправильно: надо было начальнику
тюрьмы и непременно письменно. Не должно быть сговора со следователем, а
должна быть - жалоба на нарушение режима.
Следователь, разумеется, принял сообщение близко к сердцу.
- Это меня огорчает, - сказал Опрядкин, указывая место арестанту за
столом напротив себя. - И вообще, это не дело - держать вас в одиночке.
Сегодня же вас переведут в общую камеру. Там довольно тихо и не тесно:
человек пять-шесть. Если, конечно, желаете.
Генерал согласно кивнул.
- Ну, вот и решили проблему. Я думаю, мы прекрасно поладим. Я помогу
вам, а вы мне. Должен вас уведомить, Фотий Иванович, что дело ваше мне
представляется чрезвычайно простым. Особенных усилий оно от нас не
потребует. Мы за вами наблюдали очень давно и только ждали - на чем вы
сорветесь.
- Я сорвусь? - спросил генерал. - Это как же понимать?
- Но вас же все время преследуют неудачи. Сначала - не вышло с
японцами. Теперь вы решили сорвать злость на самом для нас дорогом.
- Что вы такое порете? И на чем это я "сорвался"?
- Я думал, вы уже все про себя поняли, - сказал, улыбаясь, Опрядкин. -
Как вы себе объясняете, за что вас арестовали?
- А это вы мне сказать должны. Я и гадать не стану.
- Не станете? - сказал Опрядкин и поглядел на него пристально и с
легкой усмешкой. - Ну-ка, покажите мне ваши руки. Положите на стол. Я вам
сам погадаю.
Ничего не подозревая, генерал их положил. И Опрядкин, схватив со стола
линейку, быстро шлепнул его сначала по одной руке, затем по другой. Шлепнул
не больно, однако именно это оказалось всего обиднее и вызвало непереносимый
гнев.
- Ты что делаешь, мразь? - вскричал генерал. - Ты с кем это так?
Опрядкин, откинувшись на стуле, вздохнул почти горестно.
- И не хочется, а придется вас наказать. - Он показал линейкою в угол
комнаты. - Вон туда, арестованный. На колени в угол. И чтоб я больше не
слышал в моем кабинете этого тыканья и грубых слов. Ну-с, я жду.
Кобрисов сидел недвижно, как бы в оцепенении. Гнев еще затмевал ему
голову, и он, понимая, что говорит лишнее, все же сказал:
- Может оказаться, что я ни в чем не виноват. Вы к этому придете. А
дело сделаете - непоправимое. Я же этого не забуду.
- Интересно, на кого же вы обидитесь? - спросил Опрядкин. - На родную
нашу власть? - И, так как генерал молчал, он напомнил: - А ведь я, кажется,
что-то приказал вам? Фотий Иванович, я ведь для родины на преступление
пойду. Возьму грех на душу, вызову трех надзирателей, ну четырех, они вас
разденут догола и все равно поставят, как я сказал. Только сначала они вас
потреплют немножко. Руками и ногами. В кровавый ком превратят, в кричащее
мясо. Но, Фотий мой Иванович, зачем? Лучше же без этого. Ведь это уже не вы
будете, а, извините, зарезанный кабан. А мне нужно, чтоб вы остались самим






 Посняков Андрей
Посняков Андрей Лукин Евгений
Лукин Евгений Каменистый Артем
Каменистый Артем Никитин Юрий
Никитин Юрий Березин Федор
Березин Федор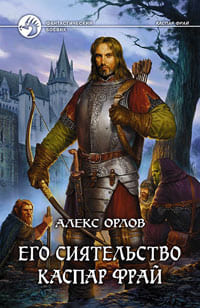 Орлов Алекс
Орлов Алекс