Уже три письма было так сожжено, и Галушко пообещал, что как доберется
до восемнадцатого, то самого владельца оформит к расстрелу - за уничтожение
величайших культурных ценностей.
- Да как же он докажет, - поинтересовался учитель логики, а прежде
корниловский офицер, - если он доказательства сожжет?
- Очень просто докажет, - отозвался товарищ прокурора Временного
правительства, - ссыплет весь пепел в архивный конверт и даст эксперту, а
тот понюхает и напишет заключение, что пепел - тот самый. А где сжег? Да у
себя дома на свечечке, чтоб не досталось народу.
Самого же "писучую жилку" не так поразила перспектива быть
расстрелянным за Вольтера, как то, что Галушко назвал эти письма "величайшей
культурной ценностью".
- Так, значит, понимает, что ценность? - прямо-таки бесновался он. -
Ведает, что творит?
- А они всегда ведали, - сказал корниловец. - Не ведал бы - так не жег.
Генералу было мучительно видеть, как убивается "писучая жилка" из-за
каких-то бумажек, и он, отозвав его в угол, осведомился полушепотом:
- Позвольте узнать... А копии с этих писем - составлены? Они в надежном
месте? - И, кашлянув смущенно в кулак, добавил: - Если во мне не уверены, то
не отвечайте...
"Писучая жилка" взглянул на него с изумлением.
- Боже мой, о чем вы? Да говорите, кому хотите. Копии есть во многих
музеях. Они приведены в книгах. Но, мой генерал, он сжигает не копии, он
сжигает подлинники!
- Ах, вон что... - сказал генерал. - Да, я понимаю.
И ему самому показалось, что он это понял.
На четвертом письме великого эпикурейца, которое лишь подпалилось с
угла - и тут же Галушко его погасил, - на этом письме "писучая жилка", не
битый, не тронутый пальцем, сломался. Он согласился подписать все, что ни
натолкал ему в протокол изобретательный Галушко, и возвратился в камеру с
просветленным лицом, имея впереди восемь лет Соловков, а при его истрепанном
сердце - так и неминуемую быструю смерть.
- Все! - сказал он генералу, вздохнув освобожденно. - Теперь я -
человек.
И странно, с этого дня внутренне оборонился и генерал против своего
Опрядкина, понял, что не все отдано и растоптано, что и в сломе еще не
падение человека, можно и сдаваясь победить, если избрать своим оружием -
смирение, смирение разума перед тупой и дурной силой, которая не есть
человек, никак, никогда не может считаться человеком, а потому и оскорбить и
унизить не может. И мгновенно это понял Лев Федосеевич Опрядкин,
почувствовал своей бесовской интуицией блатаря, что сломался он, а не
Кобрисов, когда тот совсем другим человеком явился к нему на допрос. Этот
человек не покорно, а свободно протянул руки под его линейку и опустился на
колени в углу, о чем-то своем думая. Ни на какие вопросы он не отвечал, он
их не слышал.
- С вами невозможно, - сказал Опрядкин. - Я буду вынужден передать вас
другому следователю.
Лоб у него заблестел и глаза замерцали от злости, но уголовная этика не
позволила взорваться. Он лишь пообещал холодно:
- Завтра же он вами займется по-другому. Я воздерживался от того, чтобы
сделать из вас окончательного врага. Я вас рассматривал как оступившегося,
но все же нашего человека. Мой коллега решит иначе - что вы отсюда никогда
не выйдете. Не должны ни при какой погоде. Даже если в чем-то с вами
ошиблись, как же вы после этого будете советскую власть любить? Кто в это
поверит?
Ни назавтра, ни послезавтра вызова не последовало, и генерал мог
свободно предаться раздумьям, что значило такое обещание. Между тем с его
сокамерниками происходили перемены. Вызвали с вещами товарища прокурора,
который при этом известии немедленно стал лишаться чувств. Настал для него
тот час, о котором он говорил слегка дурашливо: "Суд краткий, как свидание с
любимой, чтение вслух самого волнующего произведения - приговора. И в этот
же день - исполнение всех желаний. Кажется, дают папироску, но я, к
сожалению, не курю. Попрошу, чтоб наручники защелкнули спереди, а не за
спиной. С моим животиком это, знаете, неудобно...". Собирать его вещи и
выводить из камеры пришлось двум надзирателям и корниловцу, который счел это
"последней услугой товарищу". Он даже просил, чтоб позволили ему проводить
товарища хоть до конца коридора, но, разумеется, не позволили.
- И зря, - сказал корниловец, - они же с ним намучаются, а я бы сумел
его поддержать. Я бы ему внушил, что в Лефортове это делают быстро и
элегантно, без лишних издевательств.
Через час выкликнули и самого корниловца.
- К исполнению готов, - сказал он, прищелкнув каблуками.
У него все было уложено, упаковано в солдатский мешок. Время,
полагавшееся на сборы, он отвел для прощания с камерой, сказал каждому
несколько слов, должно быть заготовленных.
Генералу он поклонился глубоким кивком, и тот ему ответил тем же.
- Знаете, - сказал бывший корниловец, - а все же хорошо, что мы с вами
не встретились в бою, правда?
- Правда, - отвечал генерал. - Сейчас-то я куль с дерьмом, а тогда
плечико у меня было - будь здоров! Мог до седла разрубить.
- Но вы не знаете, какая у меня была тогда реакция. Ваш удар я бы успел
предупредить. Однако, что ж это мы машем шашками после драки? - он помолчал
и добавил: - Если вы, господин красный генерал, протянете мне руку, не
удивлюсь. Если нет - не обижусь.
Генерал руку ему протянул и пожелал стойкости во всем предстоящем.
- На сей счет, генерал, вы можете быть уверены, - сказал корниловец и
снова прищелкнул каблуками.
На другой день отбыл "писучая жилка" на свои Соловки, беззаботный и
бестрепетный, точно гору свалил с плеч. Перед уходом он ко всем обратился с
речью:
- Сокамерники мои, кто останется жив и отсюда выйдет свободным, а я вам
этого всем от души желаю, пусть не забудет и расскажет, что в моем деле, в
архиве НКВД, остались пятнадцать подлинных писем Вольтера. Следователь мне
обещал, что дело будет храниться вечно. И я надеюсь, что лучше, чем у них,
эти письма нигде не сохранятся. Персонально за них отвечает следователь
Галушко. А впрочем, это имя можно не запоминать. Запомните - Вольтера.
Камера обещала запомнить и пожелала ему освободиться с полсрока.
К генералу он подошел попрощаться отдельно.
- Мой генерал, я навсегда запомню наши беседы у параши. Они были
чрезвычайно интересны, полезны и плодотворны. Вы согласны?
- Я тоже запомню, - сказал генерал.
- Это не может быть иначе. Ах, мой генерал, неужели вы все это
когда-нибудь забудете? Нет, вы теперь - другой. Но я хочу надеяться, что вы
стали христианином, который уже знает, что он христианин, и равно любит как
друзей своих, гак и врагов. И когда грянет тяжкий час для нашей бедной
родины, вы, мой генерал, покажете себя рыцарем и защитите ее - со всей
человеческой требухой, которая в ней накопилась.
- Не знаю, - сказал генерал. - Да кто их защищать-то будет, сукиных
сволочей, когда они такое творят?
- Вы, мой генерал. И - наилучшим образом!
Они обнялись, похлопали друг друга по спине и прослезились немножко.
После отбытия этих троих он себя почувствовал совсем одиноко, тоска
обострилась, но с теми, кто их сменил, он уже не хотел сближаться. Он -
думал.
Он думал о том, что человек обязан выйти с ружьем в руках на порог
своего дома и защищать этот дом и свою семью, не щадя своей жизни.
Безоружный, он обязан умереть достойно, не целуя сапоги палачам. Но кто
осудит, если мучения пыток он не вытерпел, не согласился терпеть, да просто
не рассчитан на это - как танк не рассчитан, чтобы его резали газовой
горелкой! И он твердо решил: когда они его позовут в ту комнату - почему-то
ему казалось, что это делается в особой комнате, - когда они только достанут
мерзкие свои орудия, он скажет: "Не надо этого. Пишите там, что хотите. Я
подмахну". Но это, решил он, только если своими показаниями никого другого
не потянет он за собою в смертную яму. На себе самом он поставил крест.
"Писучая жилка" ошибся. Никакая дьявольская сила не вмешалась, чтобы его,
Кобрисова, спасти.
И, как бы в подтверждение этого, однажды утром надзиратель забрал у
него гимнастерку, а взамен выдал серую, больничного вида, пижаму - тоже без
пуговиц, застиранную до ветхости, но хоть не пахнущую потом. А поди,
пропитана бывала обильно, подумалось ему, потому что в этом, наверное, и
приводят в исполнение, нельзя же командира Красной Армии в форме, даже и со
срезанными петлицами... Соседи по камере смотрели на него сожалеюще. И он,
почувствовав себя уже отъединенным от них, от всего человеческого, не
устыдился жалких своих обносков, но сформулировал раздумчиво: "Тут всякая
мелочь направлена к унижению человека. И так - до последнего его шага".
На другой день, когда его выкликнули, была в тюрьме необычная тишина.
На целый час запоздали утренняя каша и чай. И вызвали его в необычное время
- в полдень, и никто не встретился по пути, не пришлось отворачиваться к
стене. Шаги его и надзирателя звучали гулко в гробовой тишине. Что-то
чувствовалось напряженное и зловещее в этих переменах.
Но встретил его в кабинете тот же Лев Федосеевич Опрядкин. Встретили -
полутьма от наглухо затянутых штор, мягкий свет лампы, отвернутой, чтоб не
беспокоить, и странные предметы на столе, заменившие толстую папку, -
бутылка коньяка, две бутылки минеральной воды, нарезанный уголками торт.
- Как это понять, гражданин следователь? Новые методы воздействия?
- Никаких методов, - сказал Опрядкин. - Поскольку вас от меня забирают,
хочу попрощаться по-хорошему. Чтоб не поминали меня лихом.
Он разлил коньяк в пузатые фужеры и протянул на серебряной лопатке
увесистый ломоть с ядовито-зеленым и розовым кремом. Генерал помотал
головою.




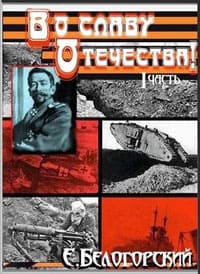

 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Маркеев Олег
Маркеев Олег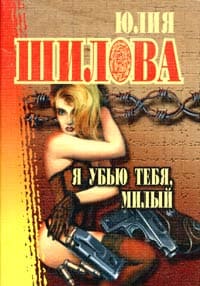 Шилова Юлия
Шилова Юлия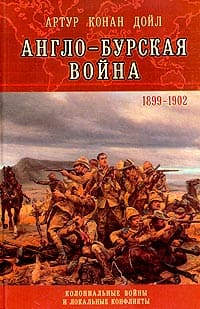 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий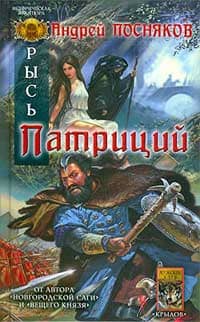 Посняков Андрей
Посняков Андрей