она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть: у него
на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал
знакомиться с будущей женой.
- Ну, естественно, - сказал Кобрисов, - я же тебя уже выбрал.
- Нет, - сказала Маша, - это я тебя выбрала. И раньше, чем ты меня.
Почин Маши Наличниковой оказался заразительным и был подхвачен. Тем же
путем, через те же фотоателье, но уже под Машиным руководством, прошла не
лучшая ее подруга, а младшая ее сестра, которая досталась в жены товарищу,
тоже эскадронному командиру. Затем, хоть и с трудностями, но выдали сестру
старшую, уже несколько засидевшуюся в свои двадцать четыре, за молоденького
заместителя Кобрисова. Сестра двоюродная тоже удачно вышла за полкового
начфина, а троюродная так совсем поднебесно - за начальника полкового
коннозапаса. Попозднее, когда подходило время нянчить у Кобрисовых детей,
выписывали жить в гарнизоне двух Машиных племянниц, одну, а потом другую, и
тоже хорошо их выдали - за начальника продфуражного снабжения и за
ветеринарного фельдшера. С неустроенной личной жизнью никто отсюда не
уезжал, и род Наличниковых все шире вторгался в жизнь гарнизона, заодно и
вышневолоцким посевам маслосемян светило расшириться до размеров желтых
морей Украины. Положение Кобрисова все укреплялось и укреплялось, прорастая
узами служебными и родственными, и всем брачующимся Наличниковым казалось,
что будут они теперь одна большая нерасторжимая семья. Но никто б не
уготовил им расставания более неизбежного, чем выходить за военных, которые,
каждый в свой час, разъезжаются по разным гарнизонам и никогда не старятся
там, где были молодыми.
Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была
любовь вдвоем, без третьего. Что особенно он ценил в своей подруге жизни,
так то, что она не считала свое завоевание окончательным. Не в пример другим
женщинам, которые, добившись своего, точно бы садятся в поезд и всю
дальнейшую свою жизнь считают обеспеченной дорожным расписанием, она его
завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Она за свою молодость,
отданную ему, сражалась смолоду, а не как все другие, лишь спохватясь.
Разменяв только третий десяток, почувствовала уже беспокойство - и
помолодела непостижимо как, постригшись короче и приняв новое имя - Майя.
Действительно, чем-то майским повеяло, ранневесенним, и она дала
почувствовать, что может быть другой. А чем бы еще его завлечь? Стать
вровень с ним - сильной и умелой амазонкой. Так и пришло в их жизнь третье -
прелестная каурая трехлетка Интрига, строптивая дочь Интернационала и
Риголетты, унаследовавшая, как то полагается кавалерийской лошади, первые
слоги их имен.
Вооружась шамберьером, он их обеих гонял на корде до пота и мыла -
красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячьем восторге, в
состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной
рыси, чтоб всадница и лошадь сливались - нет, не в единый механизм, а в одно
великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм.
Отрабатывали "манежную езду", "полевую езду" и тот упруго-напряженный
рысистый бег, что звался длинно и торжественно: "марш кавалерийской дивизии
в предвидении встречного боя", а в довершение, на закуску, атака с шашкою
наголо, "аллюр три креста". Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из
которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать,
и тогда наконец труднейшее и опасное:
- Бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие!
От избытка чувств и чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь чтоб не
задерживалась переменить ногу, он их подхлестывал длинным пастушеским
посылом, с пистолетным щелканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене
любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно
приподнятому стременем. Брюки она сама себе сшила, и так они ее обтягивали,
что голова у него кружилась и хотелось эту ткань разодрать. Конники его
эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали, как
же это командир свою бабу мучает. Она - терпела. Но терпела чутко. Едва
заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней
интереса, возмутилась:
- Что ты меня почем зря хлещешь? Всю исхлестал!
- Терпи, раз уж вызвалась, - ответил он. - В прежнее время берейторы
великих князей били по ногам, и те ничего, терпели.
Она задумалась, сделала круг и подъехала снова.
- А княгиней?
- Чего "княгиней"?
- Великих княгиней тоже по ногам хлестали?
- Ну, это уж я не знаю... Наверно.
- А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи.
Но вот однажды, усталая, вымотанная вконец и даже заметно подурневшая,
она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой чуть печальной и чуть
загадочной:
- Придется нам перерыв сделать. Скоро ты у меня отцом станешь.
Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который (или которая)
ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через два года так
же, и теми же словами, объявила о второй дочке. А когда внесли ее в дом,
сказала, едва порог переступив:
- Больше рожать не стану. Сына, видать, не будет.
Но и потом, и долго еще, была Интрига - не до старости, но до
"морального износа", когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на
танкетку с двумя гробовидными броне-крышками. Пришли к выводу, что миновало
время коней лихих и легендарных тачанок, стреляющих назад, будущей войне
понадобится танкетка, стреляющая вперед, а не намного спустя и танк с
поворотной башней, - и пришлось переучиваться, и жена разделила новое его
увлечение, научилась водить гусеничные чудища. Заставила себя полюбить и
ружейную охоту, только бы вместе быть с мужем и чтоб он любовался ею, какая
она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она
постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черное, не
ниже восьмерки. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем
домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто
побыть вместе, ведь не старость еще! Санаторий, куда непременно сошлют его,
чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх - и тем, что придется
общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных.
Он вспоминал лето 1940 года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ
Ялты, где доскребали последних, кого упустила затянуть в себя великая
мясорубка. Там старались выспаться до десяти вечера, потом уже не спалось,
подъезжала машина, слышались шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение
и стук в чью-то дверь, еще не твою, ломкий дрожащий голос того, за кем
пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только
на этаже, но, казалось, во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались -
может быть, и не преднамеренно, - заставляли пережить всю процедуру
опознания, установления личности, а потом что-нибудь не сходилось с ордером,
отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом, и
человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что
нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже
вздохнул облегченно, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору,
поднимались по лестнице, спускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу.
Никогда не спешили. И никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что
Кобрисовы пробыли там, освободилась, наверное, четверть всех комнат. В них
не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок.
Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг
не случалось. Вставал в шесть утра, выходил в парк, там делал зарядку и
бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая
аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз, и не миновать было
обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный
цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь
к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие
сапоги, он подумывал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура
была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна
рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к
зданию, - в такой позиции Вождю вести было некуда и некого, и скорее это так
читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательства
преданности и любви.
В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал
почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллеи, по которым обычно к этому
часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, были
пустынны, весь парк точно бы вымер. Потом оказалось, что несколько
отдыхающих, прервав свой отпуск, уже отбыли на такси в Симферополь, надеясь
успеть на утренние поезда, другие собирали чемоданы, третьи не знали, какой
выход лучше, предпочли довериться судьбе. Все же один попался навстречу -
знакомец, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни, в
пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не
окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, и шел,
не поднимая глаз, а поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как
чревовещатель:
- Не ходи дальше, Кобрисов.
Все мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в
чем дело, все же продолжил свой путь и - увидел, к чему приближаться ему не
следовало и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник,
по всей вероятности, воспользовался лестницей или же был он недюжинным
метателем, во всяком случае его злоумышление не так просто было устранить. И
всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником или -
что тоже было предосудительно - бездействующим зрителем, который одобряет
содеянное, а то даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал
всей кожей щеки и шеи, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих
и все окна были зашторены, и за портьерами стояли, с гулким сердцебиением,
герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии
Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев
ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел


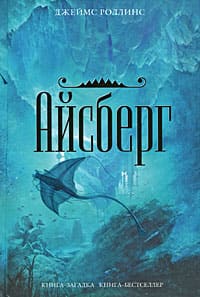



 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Беляев Александр
Беляев Александр Громыко Ольга
Громыко Ольга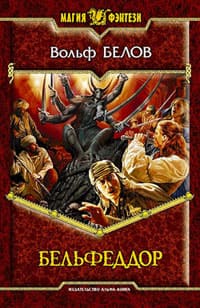 Белов Вольф
Белов Вольф Пехов Алексей
Пехов Алексей Орлов Алекс
Орлов Алекс