- Женщины и девушки! - орал Сиротин, перебарывая радио. - Красавицы вы
мои! Я правду вам скажу: на войне - все, как в жизни. Кому гроб, кому слезы,
кому почет на грудь. Поэтому за всех выпить полагается!.. Выпьем и отдадим
все силы фронту. Все силы!..
Адъютант Донской высился на обочине одиноким столбом, кривил губы
насмешливо-брезгливо, но вмешаться не спешил. Уже какая-то, мигом
захмелевшая, бабка, дробненькая и темноликая, в расхристанном ватнике не по
росту ей, пританцовывала, притопывала огромным башмаком, истошно гикая и то
попадая в такт бравурного марша, а то нарочно невпопад. Бабка из своих малых
сил очень старалась всех развеселить, насмешить - и явно преуспевала:
парни-зенитчики, спешившиеся шоферы, женщины с огородов, запрудив шоссе,
сгруживались вокруг нее, и кто подхлопывал в ладоши, кто подгикивал, кто
просто смотрел с невольной, не сгоняемой улыбкой. Поглядывали с улыбками и
на него, генерала, - как из отодвинувшейся перспективы, из окуляров
перевернутого бинокля уже, поди, выяснилось вполне, что не погибли
генеральские сыновья, чепуха это, все у него в ажуре, и, стало быть, за него
тоже праздновали, за его, как с неба свалившиеся, звезды. Худые пареньки с
тонкими шеями, кормленные по тыловой норме, в шинельках второго срока, с
бахромою на полах и на рукавах, в ботинках с обмотками, женщины с опавшими
или одутловатыми лицами, чуть только разгоревшимися, порозовевшими от
выпитого, от смеха, в тяжелых, как доспехи, уродующих ватниках, в заляпанных
грязью и обвисших юбках, в пудовых сапогах, - так выглядел этот, всегда
непонятный, народ. И генерал представил себе, как бы он вдруг объявил всем
этим людям, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и
еще не вся пролилась, сейчас только и начнется неумолимая расправа - над
теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, - и еще добавь,
добавь, сказал он себе, что и сам его причинял с лихвой! - и они этого зла
не вытерпели. У каждого была своя причина, но то общее, что сплотило их,
заставило надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих - к тому же
и неповинных, потому что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в
штыковые атаки, - это общее, заранее объявленное "изменой", не простится
одинаково никому, даже не будет услышано. И как не считались они пленными,
когда поднимали руки перед врагом, не будут считаться и теперь. Скажи он все
это - и что произойдет? Проникнутся эти люди чужими сломанными судьбами? И
хотя б на минуту прервется или омрачится праздник? А может быть, тяжкий грех
- прерывать его, омрачать? Может быть, все то, что он сказал бы, и не важно
- в сравнении с этой скудной радостью, какую доставил взятый вчера и никому
из них не известный "Сятин"?
Наверно, есть, думал генерал, еще какая-то справедливость, другая,
которой он не постиг, а постиг - Верховный. Он-то лучше всех изучил, что
нужно этому народу. Не для себя же одного придумал он эти салюты, не для
себя настоял в ноябре сорок первого: "Парад на Красной площади состоится,
как всегда". Говорили, это ему посоветовал Жуков. Но так ли важно, кто подал
совет, да были же и другие советы, важно - какой из них он принял, а принял
- как полководец, понял, что такое война. А может быть, и большее он успел
понять - что люди, к которым он был так жесток, мучил, убивал, гноил,
единственные и верные его спасители, - и человеческое в нем дрогнуло? Не мог
же так просто, на ветер бросить: "Братья и сестры!" Так Бог не обращается к
человеку! То был - "отец", а то вдруг - "братья", "сестры". С горной высоты
сошел смиренно, почувствовал себя равным со всеми, одним из всех. И в самые
страшные дни, на пределе отчаяния, сказал вовсе не парадно, а как мог бы
любой, как равный всем: "Будет и на нашей улице праздник". Какие слова
нашел! Какое в них послышалось обещание! Отныне все по-другому пойдет - еще
не сейчас, а когда немца прогоним, последнего немца с последней пяди России,
сейчас только об этом думать! Вот и ему, Кобрисову, протянул руку - поверх
всех голов, над интригами завистников - и разрубил узел, который никак не
развязывался, враз облегчил бремя, все мучившие его мысли, в которых не дай
Бог кому признаться, прочел - и отвел: "Мелочи, мелочи, не имеет значения".
И остановил на пороге Москвы, как будто пригвоздил, предупредив все нелегкие
разговоры в Генштабе. И отметил-то как - в числе немногих, самому Ватутину
не дал Героя, а ему, Кобрисову, пожаловал... И оставил только одно, не
отменимое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был
составлен наспех и брошен на полдороге, и все потери, которых могло не быть,
повисли на нем...
Между тем содержимого фляжки там, ясное дело, не хватило, и явилась на
свет пятилитровая канистра из-под моторного масла с чуть разбавленным
спиртом-сырцом. Адъютант Донской и тут не вмешался. Шестериков, охнув,
кинулся было спасать канистру, но генерал его удержал за локоть.
-- Не надо, - сказал он, всех, кого видел, любя и жалея. - Не жмись.
Гуляют люди!
... Гуляли, наверно, и там, в Мырятине. Еще на западной окраине
автоматчики вышибали немцев с верхних этажей и чердаков, и артиллерия на
всякий случай старательно расстреливала колоколенку на холме, безглазую и
пустую еще искали "керосинщиков", поджегших мебельную фабрику, только что
занятую и оприходованную как спасенное имущество, - пока не выяснилось, что
сами же и подожгли ненароком еще не различить было, где перестрелка, а где
так, салютуют от избытка чувств, а уже кто-то спал вповалку посреди газона в
скверике уже в центре телеграфистки и радисточки сменили тяжелую кирзу на
сапожки с каблучками, пошитые на заказ, и собирались выйти погулять на
главный проспект уже кто-то разведал, где дополнительное спиртное, и тащил
его в родную роту сразу в четырех касках, держа их за ремешки уже дымили на
площади походные кухни, и осмелевшие мырятинцы пристраивались в очередь с
кастрюльками и горшочками - и снова вдруг начиналась пальба: обстреливали
немецкий взвод, который вышел сдаваться аккуратным строем, но с таким
грязным лоскутом, что его не признали за белый... И может быть, вся вот эта
неразбериха и нужна была, чтоб люди пришли в себя и понемногу забыли, как на
мглистом рассвете они стояли в сырых окопах, чувствуя холод в низу живота,
молясь про себя и ожидая ракету.
Потом они узнают, потом объяснят им, что это было великое наступление.
Генерал вытер пальцами под глазами и увидел перед собою адъютанта -
вытянутого, как палку проглотил, с генеральской шинелью на локте.
- Товарищ командующий, - сказал Донской построжавшим голосом. И
поправился, нарочито выделяя новое обращение: - Товарищ генерал-полковник...
Виноват, но все-таки ехать пора. Тут уже, в конце концов, я отвечаю.
Генерал молча кивнул. Дал себя одеть в шинель, нахлобучил фуражку.
- Ожидается, что мы сегодня прибудем, - напомнил Донской, застегивая на
нем пуговицы. - Хорошо бы до одиннадцати. Время есть, но нужно же в себя
прийти.
- Хорошо бы, - сказал генерал.
Он шел к машине охотно, даже покорно, слегка поддерживаемый адъютантом
под локоть. Люди, которых он смутно различал, сразу отчего-то притихшие,
расступались перед ним широким коридором. Внизу, под насыпью, Шестериков
торопливо совал в мешок стопки, вилки, ножи, салфетки, сворачивал скатерть,
плащ-палатку, шинель. С двумя громоздкими свертками он поднялся к машине и
сунул их за передние сиденья, под ноги адъютанту и себе.
- Получше не мог уложиться? - спросил генерал.
- Фотий Иваныч, дак тут ехать-то сколько...
- Сколько б ни ехать, а фронтовую укладку соблюди. Чтоб ничего не
торчало, ноги бы не мешало вытянуть.
- Ну, я на колени возьму.
- Не надо на колени.
Генерал заговорил строго, посверкивая глазками из-под насупленных
бровей в нем появилась какая-то мрачная решимость, и адъютант Донской
почувствовал в груди некое замирание: "Никак, он сразу туда решил ехать".
Это даже восхитило Донского - в высочайшее присутственное место заявиться
вот такими, как есть, на заляпанном "виллисе", во всем повседневном,
полевом, пропахшими грязью дорог, потом, бензинной гарью, немножко и
коньячком - тоже не повредит в такой день! - пропахшими фронтом. И еще бы
разыграть, что не слыхали о Приказе, пусть-ка сначала им сообщат, поздравят.
Если в том и есть генеральская дурь, то - высокого свойства. Интересно,
подумал он, из ста генералов сколькие так бы и поступили? А сколькие - не
посмели бы?
Однако ж генерал сто первый, лучше всех изученный Донским, поставил
ногу в "виллис" и спросил водителя:
- Как у тебя с бензином, Сиротин?
- До Москвы-то? - Сильно порозовевший Сиротин, переваливая
малопослушные ноги с асфальта к педалям, беспечно рассмеялся. - Да на
нейтралке с горушки домчим, даже без зажигания. На одном, тарщ командщ,
эн-ту-зи-азме!
- А до Можайска? - спросил генерал. - Хватит без заправки?
В груди адъютанта Донского явственно что-то стало опускаться.
- Товарищ командующий... Виноват, но - Москва! Нас ведь сегодня в
Ставке ждут...
- Кто? - спросил генерал, тем же мстительным голосом, каким он кричал
про чиханье с косогора. - Кому там без нас не прожить? Ставка нам уже все
сказала. Сам сказал!..
- Еще раз виноват... Хоть я и перебрал малость,- последнюю фразу
Донской произнес с нажимом, - но осмелюсь настаивать. Это чрезвычайно важно!
Вы же потом с меня взыщете...
Генерал, широко взмахнув рукою, показал ему на репродуктор. Победные
марши смолкли, из черного раструба изливалась тягучая печальная мелодия.
- Вот это мы приняли? - спросил он, глядя в упор в бледнеющее лицо
адъютанта. - Звезды на грудь и на плечи - приняли, я спрашиваю? То, что ты
говоришь - "свое"... Значит, и все остальное должны принять! Кровь пролитая,
люди погибшие - не зовут тебя, майор Донской?
Шестериков, укладывавший возимое добро в бортовые коробы, выпрямился и
поглядел на генерала с удивлением, с восторгом, но и с мольбою.
- Ставка-то - Бог с ней, оно и лучше туда носа не казать. Но неужто


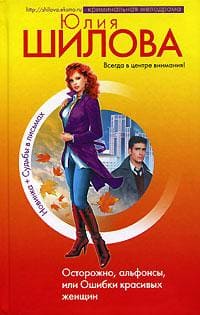
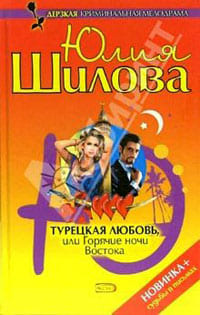
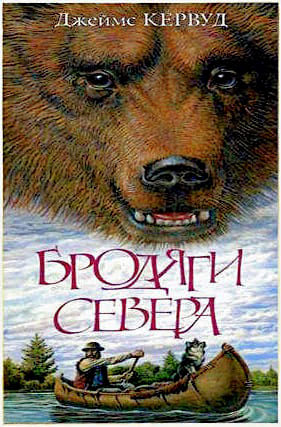

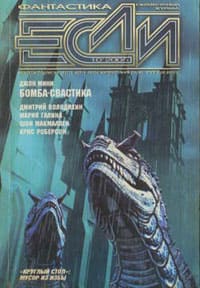 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия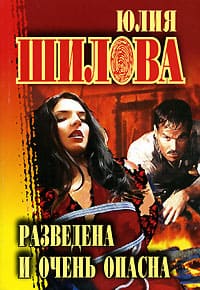 Шилова Юлия
Шилова Юлия