стекло еще ниже, протянул полицейскому пачку сигарет. Полицейский взял
сигарету.
докучной земной жизни, потому что лицо у него внезапно постарело, стало
по-прежнему угрюмым и отечным, и он спросил:
стал изображать то напускное волнение, с каким мы ищем вещь, твердо зная,
что ее при нас нет; он просто сказал:
подумал я, когда мы поехали дальше. Мы ехали по чудесным аллеям, мимо
великолепных развалин, но я почти ничего не видел: я думал о мертвом
индейце, которого монахиня нашла на Дюкстрит, когда бушевал ветер и дождь
хлестал в лицо; я видел их как во плоти - чету ангелов, из которых один
был в боевом уборе, а другая в коричневых панталонах, заштопанных розовыми
нитками, - видел гораздо явственнее, чем то, что мог видеть на самом деле:
чудесные аллеи и великолепные развалины...
ГЛЯДЯ В ОГОНЬ
заменяет плотника; но иметь собственный торфяник все-таки приятно. У
мистера О'Донована из Дублина есть таковой, как есть он у многих О'Нилов,
Маллоев и Дейли из Дублина. В свободные дни (а свободных дней у него
хватает) он берет заступ, садится на семнадцатый или сорок седьмой автобус
и едет на свой торфяник: надо уплатить шесть пенсов за билет, несколько
сандвичей и термос с чаем лежат у него в кармане, теперь можно добывать
свой собственный торф на своем собственном участке. Потом грузовик или
запряженная ослом тележка доставят этот торф в город. Его
соотечественникам в других графствах и того легче: у тех торф чуть ли не
растет перед домом, и в солнечные дни на голых, испещренных черными и
зелеными полосами холмах царит такое же оживление, как во время уборки
урожая; здесь собирают урожай, взращенный столетиями сырости меж голых
скал, озер и зеленых лугов; торф - единственное природное богатство
страны, которая уже сотни лет назад лишилась своих лесов, страны, которая
не всегда имела и не всегда имеет хлеб свой насущный, зато всегда имела
дождь свой насущный, хотя бы и кратковременный: например, когда крохотное
облачко выплывает в ясное небо, где его шутя выжимают, как губку.
порой штабеля перерастают крышу - значит, одним добром вы обеспечены
наверняка: в камине у вас всегда будет огонь - красное пламя, которое
лижет темные комья и оставляет после себя светлый пепел, легкий и без
запаха, почти как пепел сигары - белый кончик черной гаваны.
принадлежность всякого цивилизованного сборища - пепельницу. Если время,
проведенное в доме, гость расчленил на сигареты и, уходя, оставил в
пепельнице, а хозяйка потом опоражнивает это зловонное вместилище, на дне
все равно остается какая-то гадость - вязкая, липучая, черно-серая. Можно
только удивляться, что до сих пор ни один психолог не проник в низины
психологии и не открыл, как ответвление ее, науку окуркологию; тогда
хозяйка, собирая расчлененное время, чтобы выкинуть его, могла бы не без
пользы для себя поупражняться в психологии: вот докуренные только до
половины, грубо смятые окурки тех, у кого никогда нет времени и кто своими
сигаретами тщетно борется со временем за время; вот Эрос оставил
темно-красную кайму на мундштуке, а курильщик трубки - пепел своей
солидности: черный, рассыпчатый и сухой; а вот скудные окурки заядлого
курильщика, который закурит вторую сигарету не раньше, чем огонь первой
обожжет ему губы, - словом, в низинах психологии можно набрать по меньшей
мере несколько явных улик как побочных продуктов цивилизованного сборища.
И сколь благотворен огонь камина, который уничтожает все следы, остаются
только чашки, да несколько рюмок, да рдеющее в камине ядро, которое хозяин
время от времени обкладывает новыми черными брикетами торфа.
"Золотая библиотека юмора", автомобили, брачные объявления - поток,
который угрожающе растет, поток газет, оберточной бумаги, билетов и
конвертов здесь можно непосредственно превращать в огонь, да еще подложить
несколько кусков плавника, подобранного во время прогулки по берегу;
обломок коньячного ящика, чурбак, смытый с палубы какого-то корабля,
сухой, белый и чистый; стоит поднести спичку - и вот уже взметнулись языки
пламени, и время, время от пяти часов до полуночи, быстро делается добычей
мирного огня. У камина разговаривают тихо, а если кто повысит голос,
значит, одно из двух: он либо болен, либо смешон. У камина можно забыть
школьные уроки европейской школы, когда Москва вот уже четыре часа, Берлин
вот уже два и даже Дублин вот уже полчаса как погружены во мрак. Над морем
еще стоит слабое сияние, а Атлантика упорно, пядь за пядью размывает
западный форпост Европы, галька осыпается в море, бесшумные илистые ручьи
увлекают в океан темную европейскую землю; под тихий лепет струй они по
крупинке уносят за какие-нибудь несколько десятилетий целые поля и пашни.
новую порцию торфа, тщательно выложенные куски призваны дать свет для
полуночной партии в домино; медленно ползет стрелка по шкале приемника,
пытаясь узнать время, но ловит только обрывки гимнов: и Польша еще не
погибла, и Бог хранит королеву, а Маас и Мемель, Эч и Бельт все еще
границы Германии (это не говорится и не поется, но слова эти врезаны в
невинную мелодию, как в напев шарманки). И дети отчизны по-прежнему вешают
аристократов на фонарях. Медленно меркнет зеленый огонек индикатора, и
снова пламя набрасывается на торф, где лежит еще один час времени - четыре
куска торфа поверх алого ядра; насущный дождь сегодня что-то запоздал;
тихо, почти с улыбкой, падает он на болото и на море.
по болоту, по черным склонам, уже погруженным в глубокий мрак, тогда как
на берегу и над морем еще светло. Купол тьмы не спеша опускается на
горизонт, закрывая последнюю светлую щель в небосводе; но полной тьмы
по-прежнему нет, а над Уралом так и вовсе светает: вся Европа не шире
одной короткой летней ночи.
ЕСЛИ ШЕЙМУСУ ХОЧЕТСЯ ВЫПИТЬ...
какое время можно дать волю своей жажде. Покуда в деревне есть приезжие (а
они бывают далеко не в каждой деревне), он может предоставить своей жажде
некоторую свободу, ибо приезжие имеют право пить всякий раз, как
почувствуют жажду, и тогда местный житель может спокойно затесаться между
ними у стойки, тем более что он представляет собой элемент местной
экзотики, привлекающей туристов. Но вот после первого сентября Шеймусу
нужно регулировать свою жажду. Полицейский час по будням наступает в
десять, и это уже само по себе крайне неприятно, потому что в теплые и
сухие сентябрьские дни Шеймус часто работает до половины десятого, а то и
дольше.
часов, либо от шести до восьми вечера. Если обед слишком затянулся, жажда
проснется только после двух, и тогда Шеймус найдет местный трактир
закрытым, а хозяин - даже если удастся до него достучаться - будет
чрезвычайно "сорри" и не выкажет ни малейшего желания из-за одной кружки
пива или стакана виски платить пять фунтов штрафа, тащиться в главный
город графства и терять целый день. По воскресеньям с двух до шести
трактиры должны быть закрыты, а полностью доверять местному полицейскому
нельзя: бывают люди, которые по воскресеньям после слишком плотного обеда
испытывают приступ исполнительности и хмельную преданность закону. Но и
Шеймус тоже слишком плотно пообедал, так что его страстное желание выпить
кружку пива можно понять и уж никак нельзя осудить.
размышляет. Пересохшей глотке запретное пиво представляется гораздо более
соблазнительным, чем было бы пиво доступное. Шеймус размышляет: выход есть
- можно достать из сарая велосипед и отмахать шесть миль до соседней
деревни, потому что тамошний трактирщик должен дать ему то, в чем должен
отказать местный: его порцию пива. Этот нескладный закон содержит
оговорку, согласно которой путнику, удалившемуся от своего дома не менее
чем на три мили, напитки отпускаются беспрепятственно. Шеймус все еще
размышляет: географическое положение у него неблагоприятное - к сожалению,
человек не может сам выбрать, где ему родиться, и Шеймусу в этом смысле
крайне не повезло, ибо ближайший трактир находится не в трех, а в шести
милях отсюда - редкая для ирландца неудача, чтобы на шесть миль - и ни
одного трактира. Шесть миль туда, шесть миль обратно - получается
двенадцать миль, то есть больше восемнадцати километров, ради одной кружки
пива, да вдобавок часть дороги идет в гору. Шеймус отнюдь не пьяница,
иначе он не размышлял бы так долго, а давно бы уже крутил педали и весело
бренчал монетами в своем кармане. Ему всего только и хочется выпить кружку
пива: окорок был так пересолен, капуста так переперчена, а разве подобает
мужчине утолять свою жажду колодезной водой или пахтаньем? Он разглядывает
плакат над трактиром: огромная, выполненная в натуралистической манере
кружка пива, такой темный, цвета лакрицы, такой свежий, чуть горьковатый
напиток, а поверх - пена, белая, белоснежная пена, которую слизывает





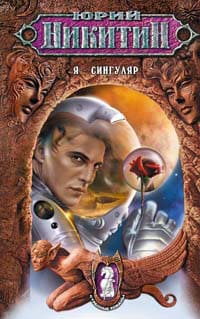
 Каменистый Артем
Каменистый Артем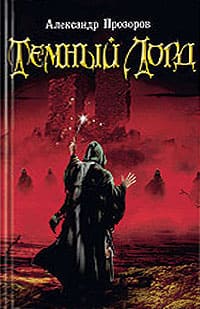 Прозоров Александр
Прозоров Александр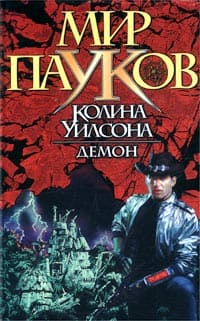 Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий