кто-нибудь подвозил в Ньюпорт или в Фоксфорд, всю дорогу вода - либо по
берегу озера, либо по берегу моря.
матери и тихо спросила:
охоты жевала бутерброд, женщина курила, священник снова взялся за свой
требник, но теперь, сам того не замечая, он подражал девочке: из его
бормотанья вдруг вырывались отчетливые слова: "Иисус Христос", "святой
дух", "Мария". Потом он снова закрыл книгу.
поцелуи, под зонтиками лились слезы. Шофер такси спал, уронив голову на
скрещенные на руле руки. Я разбудил его; он принадлежал к той приятной
разновидности людей, которые просыпаются с улыбкой.
окне пианино, ноты выглядели так, словно их покрыл толстый слой пыли;
парикмахер томился от скуки в дверях своего заведения и щелкал ножницами,
словно хотел перерезать нити дождя; у входа в кино какая-то девушка
подмазывала губы; дети с молитвенниками под мышкой бежали под дождем,
какая-то старушка кричала через улицу какому-то старичку:
[Прекрасно - с помощью господа бога и пресвятой богоматери! (англ.)]
тихо спросил меня шофер.
волосы седеющей женщины, две мрачные скалы охраняли вход в маленькую
бухту.
дальних, совершенно ему безразличных родственников. - Там, - добавил он и
показал вперед, где из мглы поднимался церковный шпиль. Вокруг шпиля
носились вороны, тучи ворон, напоминавшие издали хлопья черного снега.
здесь произошла единственная в своем роде битва - битва за авторское
право.
списали псалтырь, принадлежавший перу святого Финиана, и произошла битва
между приверженцами святого Колумбана и святого Финиана. Было три тысячи
убитых, но король положил конец спору, он сказал: "Как каждой корове
положен теленок, так и каждой книге положена копия". Значит, вы не хотите
взглянуть на поле битвы?
было на могиле Йитса, холоден был камень, и речение, которое Йитс просил
написать на своем надгробии, было холодным, как те ледяные иглы, что
вонзились в меня из могилы Свифта: "Всадник, кинь холодный взгляд на жизнь
и на смерть - и скачи дальше". Я поднял глаза: может быть, вороны - это и
есть заколдованные лебеди? Вороны насмешливо каркали, носясь вокруг
колокольни. Распластанные, придавленные дождем, лежали на холмах листья
папоротника, ржавые и жухлые. Мне стало холодно.
тысячи километров воды по ту сторону могилы Йитса. И ни одного лебедя.
ПОГОВОРКИ
сломал ногу, разорился, наконец, мы говорим: "Хуже просто быть не могло".
Всякий раз то, что случилось сейчас, и есть самое страшное. У ирландцев же
почти все наоборот: если здесь человек сломал ногу, опоздал на поезд,
разорился, наконец, они говорят: "It could be worse" - "Могло быть и
хуже": вместо ноги можно было сломать шею, вместо поезда - проворонить
царствие небесное, а вместо состояния потерять душевный покой (сама по
себе потеря состояния не дает для этого ни малейшего повода). То, что
произошло, никогда не бывает самым страшным - самое страшное никогда не
происходит: у человека умирает горячо любимая и высокочтимая бабушка, но
ведь вдобавок мог умереть столь же горячо любимый и не менее высокочтимый
дедушка; сгорел двор, но кур удалось спасти, а ведь могли сгореть и куры,
но если даже и куры сгорели, все равно самое страшное все-таки не
произошло - сам-то человек не умер. А если даже и умер, значит, избавился
от забот, ибо каждому раскаявшемуся грешнику уготовано небо - конечная
цель утомительного земного паломничества после сломанных ног, пропущенных
поездов и несмертельных разорений всякого рода. На мой взгляд, нам, если
что-то произошло, сразу отказывают юмор и фантазия; в Ирландии они тут-то
и разыгрываются. Тому, кто сломал ногу, лежит, изнывая от боли, либо
ковыляет в гипсе, слова "могло быть и хуже" даруют не только утешение, но
и занятие, которое предполагает в нем поэтический дар, порой с примесью
легкого садизма: надо только почувствовать страдания человека, сломавшего
шею, представить себе, как выглядит вывихнутое плечо или размозженный
череп, и вот уже человек, сломавший ногу, ковыляет дальше, благодаря
судьбу за то, что она ниспослала ему столь незначительное несчастье.
выплачиваются безропотно и охотно: если дети лежат в коклюше, задыхаются
от кашля, жалобно плачут и требуют самоотверженного ухода - значит, надо
радоваться, что ты сам держишься на ногах, можешь ходить за детьми, можешь
работать для них. Фантазия здесь поистине не знает границ. "It could be
worse" - "Могло быть хуже" - здесь это наиболее употребительная поговорка,
вероятно, и потому, что плохо бывает куда как часто, и худшее дарует, так
сказать, утешительное сопоставление.
же часто: "I shouldn't worry" - "Я бы не стал беспокоиться", причем,
заметьте, это говорит народ, который ни днем, ни ночью ни на единую минуту
не остается без поводов для беспокойства: сто лет назад, когда был
страшный голод и неурожай несколько лет подряд - это великое национальное
бедствие, которое не только непосредственно опустошило страну, но и
породило нервный шок, до сих пор передаваемый по наследству из рода в род,
так вот, сто лет назад в Ирландии было почти семь миллионов жителей; в
Польше, наверно, было тогда столько же, но зато сейчас в Польше более
двадцати миллионов, а в Ирландии едва наберется четыре, хотя, видит бог,
Польшу тоже не щадили ее великие соседи. Подобное уменьшение числа жителей
от семи миллионов до четырех в стране, где рождаемость превышает
смертность, означает непрерывный поток эмигрантов.
десятеро) детей, имеют, казалось бы, достаточно причин, чтобы беспокоиться
денно и нощно. Они и беспокоятся, надо полагать, но даже они с покорной
улыбкой говорят: "Я бы не стал беспокоиться". Они еще не знают и никогда
не узнают точно, кому из их детей суждено населить трущобы Ливерпуля,
Лондона, Нью-Йорка или Сиднея, а кому повезет. Во всяком случае, когда-то
пробьет час расставанья для двоих из шести, для троих из восьми. Шейла или
Шон потащатся со своими чемоданами к автобусной остановке, автобус
доставит их к поезду, поезд - к пароходу; потоки слез на автобусных
остановках, на вокзалах, на Дублинской или Коркской пристани в дождливые,
безрадостные, осенние дни: путь по болоту, мимо заброшенных домов, и никто
из тех, кто весь в слезах остался на остановке, не знает точно, увидит ли
он еще-когда-нибудь Шейлу или Шона; далек путь из Сиднея в Дублин, далеко
от Нью-Йорка до дома, а многие никогда больше не возвращаются даже из
Лондона, они обзаведутся семьей, народят детей, будут посылать домой
деньги - а впрочем, кто знает.
силы, а некоторые уже ее испытывают, здесь двое из шести или трое из
восьми братьев и сестер знают наверняка, что им придется эмигрировать -
вот как глубоко проник нервный шок, вызванный великим голодом. Из рода в
род лютует его зловещий призрак; порой невольно кажется, будто эмиграция -
это своего рода привычка, своего рода обязанность, которую просто следует


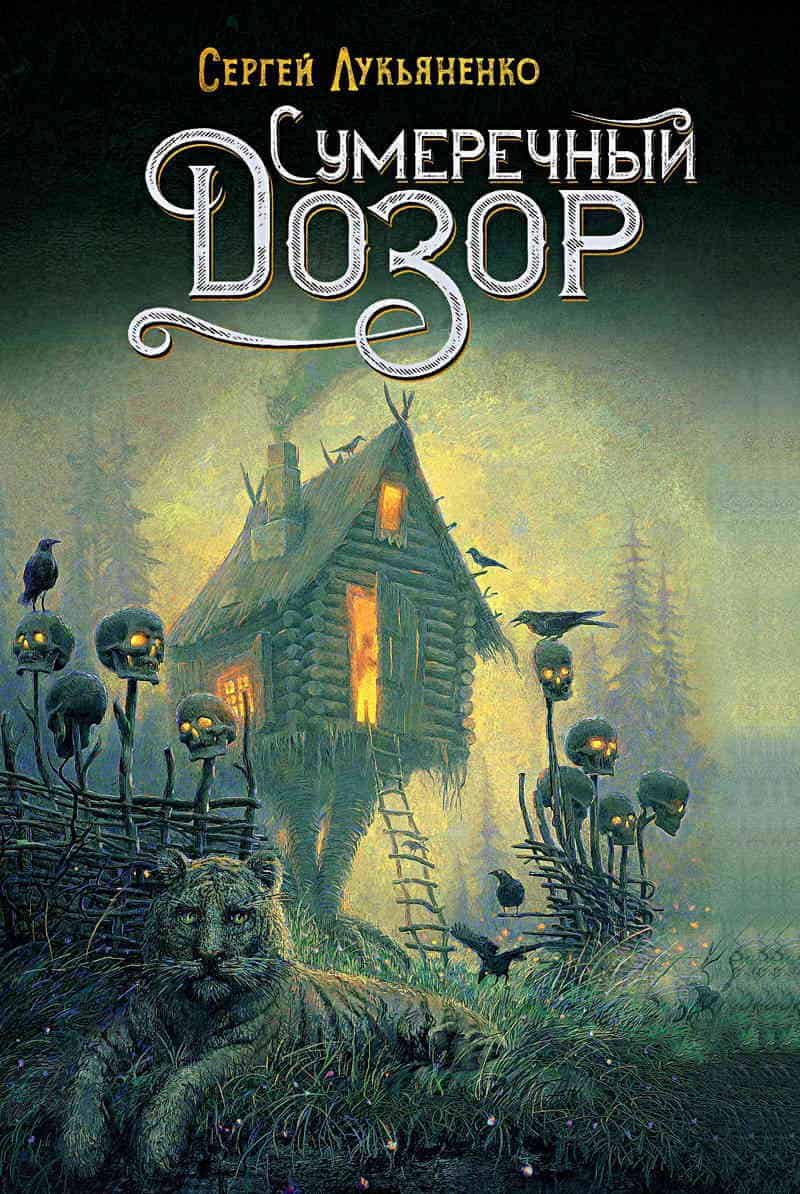



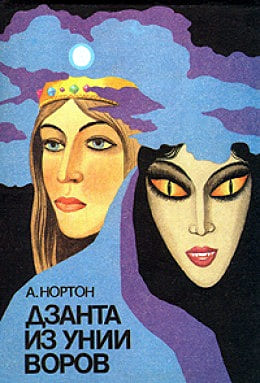 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ Ильин Андрей
Ильин Андрей Самойлова Елена
Самойлова Елена Громыко Ольга
Громыко Ольга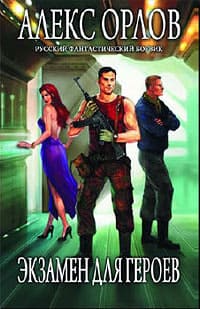 Орлов Алекс
Орлов Алекс Панов Вадим
Панов Вадим