выпив, - сказала вдруг, мучительно задыхаясь на каждом слове:
надо, устал ты от одиночества. И серебряное блюдо никак забыть не можешь.
Найди его. Серебро не ржавеет, Сашенька, любовь моя единственная, счастье
мое. Не ржавеет, только патиной покрывается. Такая любовь - до последней
седины...
прощались с нею, отпевали да хоронили, и еще - шесть. До первых поминок...
Васильевной, обещал навещать. Она даже не рыдала. Сил у нее не было
отрыдаться, потому что жизнь смысл потеряла.
Савка. Как-то не замечал до этого, что тут он, рядом, что не оставил меня.
серебряном блюде.
Матвеевич. Это был рослый, красивый юноша с уже чуть заметной рыжеватой
бородкой и умными глазами. Молодец мама Луша, что настояла на его учении,
молодец и Савва Игнатьич, сделавший для меня маленький, а все же - подарок.
недаром ведь не барином назвал, а по имени-отчеству обратился.
случайно, хотя и как бы между прочим:
произвели, я им лесу отпустил. Сейчас вовсю по вечерам огнями светится.
прочим:
прогуливал.
посмотрел, что ли.
отдохните, а завтра - поглядим, как оно получается.
где же муж? Жив еще или уже помер? А коли жив, так в Италии остался или
расстались они насовсем? И как же фамилия-то его, как фамилия?..
Затрясский?.. Затусский?.. Помню, что "ЗА". Он всегда за чем-то был.
Зачем-то...
сыночком Засядским. Весь в отца, поди. Любопытно, как его зовут? Как деда
или как отца?..
вылезал. Так и метался я с ним по дому, пока... Пока не блеснула в
свихнувшихся мозгах моих некая мысль: я же Полиночку, невесту свою, только
что похоронил. И первое, что узнал, - графинюшка вернулась. Значит, она,
она, Полиночка, оттуда ее вызвала, из-за границы, чтобы я в окончательном
одиночестве не остался.
да Полиночку помянуть... Нет, напился. Вдвоем с бутылкой, по-гусарски.
Окосел, и в пьяную голову первая трезвая мысль пришла: а чего это я
разбегался? Ну, не моя Аннет, давно уж не моя, а косноязычного этого
Засядского. И Полиночка теперь не моя, а - Божья. И никого у меня нет. Один
я, как перст. В отставке.
собственное единоприсутствие свое в многоприсутственном и шумном мире сем. И
проснулся с этим осознанием, а потому горьким было мое пробуждение. Не от
горечи с похмелья, а от горечи в душе.
Подумав при этом, что пора к этому привыкать. Спокойно подумал и неторопливо
завтракал, когда объявился наконец мой молочный брат и управитель.
этому не пришел.
капитанский, цепляйте все ордена и скачите представляться заново. Иван вон с
утра велел Лулу вычистить и подседлать.
сортире навсегда заперта.
Особенно в части капитанского мундира. К тому же Лулу и впрямь была
вычищена, выгуляна и подседлана. Заржала радостно, башкой замотала, меня
увидев. Расцеловались мы с ней, подтянул я подпругу, вскочил в седло и отдал
поводья.
головой встряхивая. А я думал... Нет, ни о чем я тогда не думал. Сердце мое
в том же аллюре трепыхалось...
Мальчик какой-то в голубой рубашке у подъезда стоял, на меня во все глаза
глядя. Я спрыгнул с седла, бросил ему поводья и - бегом через две ступени.
на второй этаж, то ли из залы, то ли... Помню, что на шее у меня оказалась.
Как в юности.
ждала. Как я ждала!..
силах были разлучить.
перебивали мы друг друга, а вот почему перебивали и о чем говорили - напрочь
из головы выскочило. И начались-то эти воспоминания - не начались, а
выстроились, что ли, - с моего вопроса.
России остался. Говорят, в Кавказской войне участвовал не без успеха.
засмеялась и позвала:
французском языке:
понимал, во что-то хотел поверить и - не верилось мне. И Аничка почему-то
молчала, а потом сказала вдруг. Негромко и очень серьезно. Как-то даже
чуточку торжественно, что ли:
Олексин, о котором я тебе столько рассказывала. Герой Кавказской войны.
бросился. Уж потом, потом, когда Аничка отослала его к обеду переодеваться,
узнал я, чего нас с нею лишили. Вернее, пытались лишить, но так и не смогли.
да только... Только шевельнулся в душе моей ребеночек наш, - Аничка
порозовела, почему-то вдруг засмущавшись. - Еще не в теле моем, еще в душе
только, но молчать об этом я уже не могла. Я за дитя отвечала, гордилась им,
и нами тоже гордилась. И во всем призналась маменьке. Поплакали мы, как
водится, и пошли батюшке признаваться. Маменька успокаивала меня, убеждая,
что он все поймет, простит и соединит нас с тобою, душа моя. А он ничего не
пожелал понимать и помчался в Петербург.



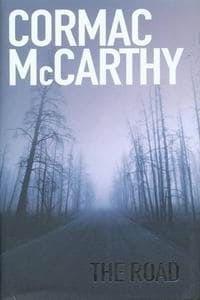


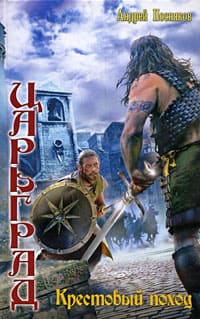 Посняков Андрей
Посняков Андрей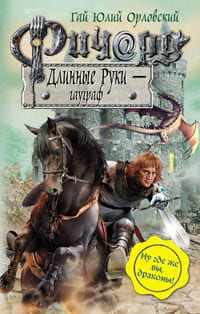 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Шилова Юлия
Шилова Юлия Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Суворов Виктор
Суворов Виктор Флинт Эрик
Флинт Эрик