казармы с фронтонами. Строили его из-под батога, а потому все в одну линию и
выстроили. И дух насилия витает над прямыми проспектами: и хочется хоть
куда-нибудь завернуть, а - не получается. Градостроители постарались, чтоб
все только прямо и ходили фрунтовым шагом.
как-то муравейник показали, который вокруг дуба расположился да и подмял тот
дуб под себя. Вот тогда-то я о Москве и вспомнил. Не о той, которую в
древности с веселья да похмелья строили, а о той, что получилась. А
получился бабушкин клубок, настолько перепутанный да закрученный, что
москвичи только тем и занимаются, что друг у друга дорогу спрашивают. Здесь
и вольно, и хмельно, и всегда тесно, как и должно быть в запутанном котенком
бабушкином клубке. А Кремль что тот дуб в молдавских кодрах, до гордой своей
вершины облепленный муравьями.
неспешных городках, где нет ни шпалерных проспектов, в которых невольно и до
сей поры свист шпицрутенов слышится, ни замысловатых арабесок муравьиного
самоутверждения, ни людских скопищ, вечно спешащих неизвестно куда и
неизвестно зачем. Здесь тихо, покойно, патриархально, неспешно, все друг
друга знают и все друг с другом здороваются. Я бы в таком городке помереть
хотел, кладбища там малонаселенные.
решил еще, правда, к лучшему или к худшему, но в этой вечной дилемме и
заключено наше отличие от тварей земных.
потому и запихал меня на службу в возрасте, когда еще маменьку по ночам
зовут. Семнадцать мне едва исполнилось, когда я в чине прапорщика гвардии
прибыл на пополнение московского гарнизона. И по утрам, признаться, то место
щипал, откуда усы растут. С редкой настойчивостью.
случилось, что моим первым ментором оказался гвардейский хрипун Васька
Турищев. Учил он меня без затей, поскольку сам о них не ведал, зато надут
был спесью, которую я по недоношенности ума своего принимал тогда за
первейший признак особой комильфотности. Глупость вполне прощаемая, коли не
переходит в хроническую. Мне повезло, могла и перейти.
поводу категорического отказа какой-то белошвейки и решил преподать мне
пример, как противостоять подобному а tout prix ("во что бы то ни стало").
Правда, цена оказалась куда как выше предположенной.
поры. Молодость спокойно обходится не только без логики и размышлений, но и
без географии, почему всегда влипает в истории. Вечер теплый, все прелестно,
я чирикаю, поскольку возрасту моему свойственно чирикать.
Васька всю дорогу. - По чести офицера ценят, нет у нас иных козырей...
застенчиво и неуверенно к заборам жмется. Девица мила и юна, молодой
человек, спутник ее, неестественно напряжен и как бы вроде меня. То есть без
усов еще и опыта. Мой arbiter elegantierum ("законодатель изящных манер")
тут же заступает им скромную тропиночку и вдруг - весьма нагло:
обучения.
сестру в покое.
мило, но, слышал я, у тебя дела неотложные? Хочешь, на извозчика дам?
убедительно.
молодого человека. Поразительно, но юнец даже не загораживается от удара, а
дева слабо вскрикивает.
на дуэль, потому что вы не рискнете драться с недворянином, а посему...
исступление и бьет тростью молодого человека по рукам, по лицу, по голове...
отскакивает, девица кричит, а юнец приставляет пистолет к собственному
виску.
вперед, сбить руку. Выстрел все-таки грянул, но пуля ушла в воздух. А я...
все помнится ясно и туманно одновременно. То есть физические действия могу и
сейчас повторить, но вспомнить, о чем думал, - excusez-moi, s'il vous plaоt
("извините, пожалуйста"). Вырвал пистолет у цивильного брата таинственной
белошвейки и со всей силы ударил Ваську Турищева кулаком по физиономии.
бору. Дуэль под номером один для меня. Я впервые целился в живого человека,
и оружие показалось мне тогда слишком тяжелым. Но в ногу я ему все же попал.
Не мог не попасть, должен был попасть, обязан был. Хотя бы в ногу.
Кишинев...
меня Господь добрым приятельством, и того ради, чтоб наследники мои чужих
писем, а уж тем паче воспоминаний не листали похвальбы для. Вот, мол,
глядите, кто в Кишиневе батюшкиным ментором оказался.
пота меня фехтованию учил:
времена, дети мои, поди, оно и совсем в небытие уйдет. Только дуэли
сберегите, а то в мерзости захлебнетесь. "Есть упоение в бою..." И от себя
добавлю: и очищение. Извини, Александр Сергеевич, за вольное мое добавление.
дал к старому другу, но письмо то я ему не показал. Не следует жизнь
отцовскими памятными плитами мостить, даже если они из доброго гранита.
мне ни на знакомства напрашиваться, ни каких-либо покровителей искать.
Остановился у Беллы - она держала гостиницу и пансион при ней, и я
обосновался в пансионе. Временно, пока мой Савка не подберет мне
самостоятельное жилье.
воспоминания мои. Мне ведь едва семнадцать минуло, и хотя сына уже прижил, а
все равно пока еще девственником себя ощущал. Не то чтобы волочиться -
флиртовать с девицами своего круга не решался. Дух у меня замирал и язык
прилипал к гортани: корпусное обучение сказывалось, что ли? Словом, этакий
оболтус саженного росту с соответствующей росту этому робостью, которую я
изо всех сил и весьма неумело скрывал, коли случай какой сталкивал меня с
дамами, а уж тем паче - с барышнями.
застенчивости никакой я пред нею не испытывал, она - тоже, и... И - вечная
ей благодарность и признательность моя. Скрасила она мои первые тусклые
вечера, растворила в ласках неуверенность мою и помогла понять и осознать,
что такое - мужчина. Не раздираемый яростью плоти барчук, каким я маме Луше
представлялся, а - кавалер, который способен присниться, и рыцарь, которому
можно довериться.
достраивает душу вашу, тогда как зло всегда лишь разрушает ее. А посему и
недостойно того, чтобы помнить о нем...
Инзова Ивана Никитича. Службы - утром явиться, а дальше - как знаешь. И,
помаявшись от таковой деятельности, забрел я как-то в фехтовальный зал.
основам учил: как рапиру держать, как салютовать перед началом схватки и в
конце ее, пяти позициям фехтующего да некоторым простейшим приемам. Он уже
принял тогда твердое решение меня в Корпус определить, а потому к
профессиональным учителям и не желал обращаться, справедливо рассуждая, что
в Корпусе сына его все равно по-своему переучат. И оказался прав совершенно:
в Корпусе фехтованию каждый Божий день учили, но отнюдь не на шпагах, а на
саблях. Учили тому, что в будущей офицерской службе будет просто необходимо,
поскольку готовили из меня кавалериста. Но звон клинков в уши запал, почему
я на этот звон и пришел.
подмастерьем сталью лязгал. Мне, гвардейцу, признаться, маленьким он
показался, но складненьким и проворным, как обезьянка. И поначалу встретил
он меня как-то неприветливо, настороженно, испуганно даже. Дней десять
понадобилось, чтобы, как говорится, la glace est rompue ("лед сломан") был.
И после первой улыбки его при звоне рапир, после взаимного обмена победами и


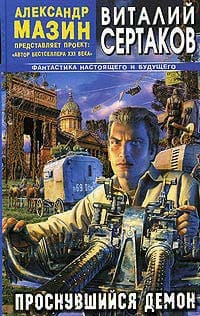

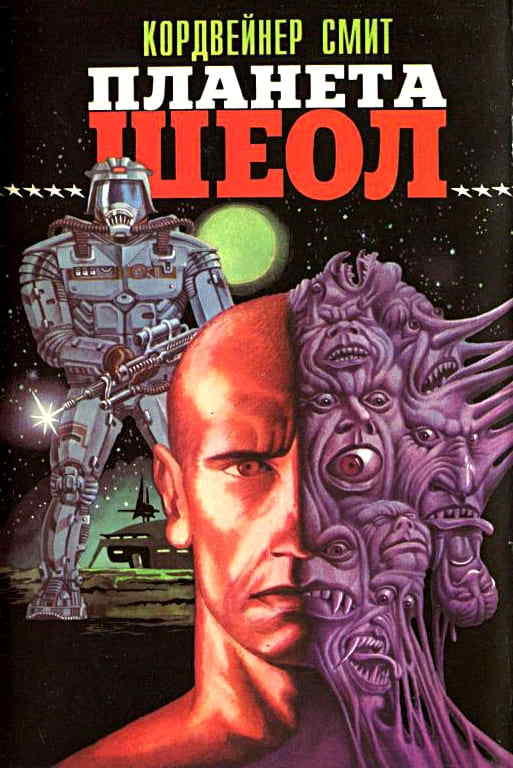

 Корнев Павел
Корнев Павел Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Бажанов Олег
Бажанов Олег Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс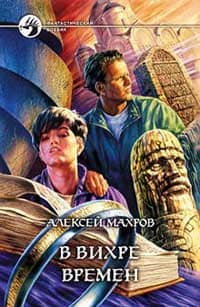 Махров Алексей
Махров Алексей