мои вернулись к удару топором, который сейчас оборвет ее, я содрогнулся,
будто узнал об этом впервые. Чудесное мое детство! Чудесная юность!
Златотканый ковер, конец которого омочен в крови. Между прошлым и настоящим
пролегла река крови - крови его и моей.
чтобы после стольких лет беспорочного счастья мог наступить этот страшный
год который начался преступлением и кончается казнью. Он никак не вяжется с
остальными годами. Все же - подлые законы и подлые люди, - я не был дурным
человеком!
день год назад я был свободен и безвинен, совершал прогулки и бродил под
деревьями по опавшей осенней листве.
XXXV
Дворец правосудия и Гревскую площадь, и во всем Париже люди приходят и
уходят разговаривают и смеются, читают газету, обдумывают свои дела:
лавочники торгуют, девушки готовят к вечеру бальные платья, матери играют с
детьми!
XXXVI
перехода по хрупкой галерее, соединяющей обе башни, от зрелища Парижа подо
мной, когда я очутился в клетке из камня и бревен, где висит большой колокол
с языком весом в тысячу фунтов. Весь дрожа, ступал я по плохо пригнанному
дощатому полу, издали разглядывая знаменитый колокол, который так славится
среди ребят и простого народа; при этом я с ужасом убедился, что покатые
шиферные кровли, окружающие колокольню, находятся на уровне моих ног. В
просветы я видел, так сказать с птичьего полета, площадь перед собором и
прохожих ростом не больше муравьев.
башня дрогнула. Дощатый настил затрясся, заходил ходуном на балках. А я чуть
не упал навзничь от внезапного грохота; я покачнулся и еле удержался, чтобы
не покатиться по наклонной шиферной кровле. От испуга я лег на доски и
крепко обхватил их обеими руками, у меня отнялся язык и перехватило дыхание,
а в ушах раздавался оглушительный звон и перед глазами где-то глубоко, как
бездна, зияла площадь, по которой с завидной безмятежностью сновали
прохожие.
кружится, в глазах темнеет, каждая извилина моего мозга сотрясается, как от
колокольного звона; а та ровная мирная стезя жизни, с которой я свернул и по
которой совершают свой путь другие люди, виднеется где-то вдали, сквозь
расселины бездны.
XXXVII
неожиданно тоненькой колоколенкой, с огромным белым циферблатом, с рядом
мелких колонн в каждом этаже, с бесчисленными окнами, с лестницами,
истертыми от шагов, с двумя арками направо и налево; недаром на Гревскую
площадь обращен ее зловещий, источенный старостью фасад, такой темный, что
даже на солнце он не становится светлее.
приговоренного.
черном фасаде.
XXXVIII
встаю или наклоняюсь, мне кажется, будто в голове у меня переливается
какая-то жидкость и мозг мой бьется о стенки черепа.
как от гальванического толчка.
XXXIX
спокойный конец, и смерть таким способом очень облегчена.
стоит томление этого невозвратного дня, который тянется так медленно и
проходит так быстро? Чего стоит эта лестница пыток, ступень за ступенью
приводящая к эшафоту?
- чтобы кровь уходила капля за каплей или чтобы сознание угасало мысль за
мыслью.
сказал? Слышал ли кто-нибудь, чтобы отрубленная голова, вся в крови,
выглянула из корзины и крикнула в толпу: "Это совсем не больно!"?
заявить: "Изобретение хоть куда, лучшего не ищите, механизм действует
исправно"?
кто так говорит, поставил ли себя даже мысленно на место человека, на
которого падает тяжелое лезвие и впивается в тело, разрывает нервы, крушит
позвонки?.. Как же! Полсекунды! Боль не чувствуется... Какой ужас!
себя, как ни отмахиваюсь, внутренний голос непрерывно нашептывает мне:
находится человек, чьи двери тоже охраняются часовыми, человек, как и ты, не
имеющий себе равного в глазах народа с той разницей, что он первый, а ты
последний из людей. Каждая минута его жизни полна торжества, величия,
упоения и услады. Его окружает любовь, почет, благоговение. В беседе с ним
самые громкие голоса становятся тихими и склоняются самые горделивые головы.
Взгляд его ласкают золото и атлас. В этот час он, верно, совещается с
министрами, и все согласны с его мнением, или же думает о завтрашней охоте,
о сегодняшнем бале, не сомневаясь, что празднество состоится вовремя, и
возлагая на других заботу об его увеселениях. А ведь он такой же человек, из
плоти и крови, как ты! - И чтобы сию минуту рухнул проклятый эшафот, чтобы
тебе было возвращено все - жизнь, свобода, состояние, семья, - достаточно,
чтобы он вот этим пером начертал под листком бумаги четыре буквы своего
имени, достаточно даже, чтобы его карета встретилась с твоей телегой. И он
ведь добрый и, может быть, рад бы все сделать, но ничего этого не будет!
XLI
глаза. Пусть ответит нам, что она такое и чего от нас хочет, со всех сторон
рассмотрим эту жестокую мысль, постараемся расшифровать загадку и заранее
заглянуть в могилу. Когда глаза мои закроются, я увижу, мне кажется, яркое
сияние, бездны света, в которых будет вечно парить мой дух. Небо, мне
кажется, засветится само по себе, а звезды будут на нем темными пятнами, не
золотыми блестками на черном бархате, как в глазах живых, а черными точками
на золотой парче.
сторон окутанная мраком, и я буду вечно падать в нее и видеть, как во мгле
шевелятся призраки.
поверхности и буду ползать в темноте, вращаясь, как вращается скатившаяся
голова. Мне кажется, сильный ветер будет гнать меня и сталкивать с другими
катящимися головами. Местами мне будут попадаться болота и ручьи,
наполненные неизвестной тепловатой жидкостью, такой же черной, как все
кругом. Когда во время вращения глаза мои обратятся вверх, они увидят
сумрачное небо, все в тяжелых, низко нависающих тучах, а дальше, в глубине,
огромные клубы дыма, чернее самого мрака. Еще увидят они мелькающие во тьме
красные точки, которые вблизи обернутся огненными птицами. И это будет
длиться вечность. Возможно также, что в памятные даты гревские мертвецы
собираются темными зимними ночами на площади, по праву принадлежащей им. К
толпе этих бледных окровавленных теней примкну и я. Ночь безлунная, все
говорят шепотом. И перед нами снова обветшалый фасад ратуши, ее облупленная
крыша и циферблат, который был неумолим ко всем нам. На площади воздвигнута
адская гильотина, где черт должен казнить палача. Произойдет это в четыре
часа утра, и теперь уж мы будем толпиться вокруг.
облике возвращаются они? Что они сохраняют от своего урезанного,
изувеченного тела? Что предпочитают? Голова или туловище становится
призраком?
берет у нее или придает ей? Куда девает ее? Возвращает ли ей хоть изредка
телесные очи, чтобы смотреть на землю и плакать?
священник, мне нужно приложиться к распятию!






 Пехов Алексей
Пехов Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия Суворов Виктор
Суворов Виктор Николаев Андрей
Николаев Андрей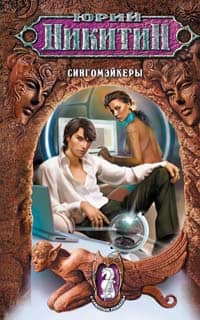 Никитин Юрий
Никитин Юрий Маккарти Кормак
Маккарти Кормак