XI
одна мысль. Я встал и принялся водить ночником по стенам камеры. Все четыре
стены испещрены надписями, рисунками, непонятными изображениями, именами,
которые переплетаются между собой и заслоняют друг друга. Должно быть,
каждому приговоренному хотелось оставить по себе след, хотя бы здесь. Тут и
карандаш, и мел, и уголь, черные, белые, серые буквы; часто попадаются
глубокие зарубки в камне, кое-где буквы побурели, как будто их выводили
кровью. Если бы я не был поглощен одной думой, меня, конечно, заинтересовала
бы эта своеобразная книга, страница за страницей раскрывающаяся перед моим
взором на каждом камне каземата. Мне любопытно было бы соединить в целое
обрывки мыслей, разбросанных по плитам; из каждого имени воссоздать
человека; вернуть смысл и жизнь этим исковерканным надписям, разорванным
фразам, отсеченным словам, обрубкам без головы, подобным тем, кто их писал.
стрелой, а сверху надпись:
долгий срок.
ней написано: "Да здравствует император! 1824".
боготворю Матье Данвена. Жак".
всякими завитушками.
врезанный в камень, а под ним: "Бориес. Республика". Так звали одного из
четверых ларошельских сержантов. Бедный юноша! Какая гнусность эти
пресловутые требования политики! За идею. За фантазию, за нечто отвлеченное
- жестокая действительность, именуемая гильотиной! Как же жаловаться мне,
окаянному, когда я совершил настоящее преступление, пролил кровь! Нет,
больше не буду заниматься изысканиями. Я только что увидел сделанный мелом
рисунок, от которого мне стало страшно, - рисунок изображал эшафот, быть
может, именно сейчас воздвигающийся для меня. Ночник едва не выпал у меня из
рук.
XII
мало-помалу детский мой ужас прошел, и болезненное любопытство побудило меня
продолжать чтение этой стенной летописи.
затянувшую весь угол. Под этой паутиной обнаружилось много имен, но от
большинства из них на стене остались одни пятна, только четыре или пять
можно было прочесть без труда. "Дотен, 1815. - Пулен, 1818. - Жан Мартен,
1821. - Кастень, 1823". Жуткие воспоминания связаны с этими именами: Дотен -
имя того, кто разрубил на части родного брата, а потом ночью блуждал по
Парижу и бросил голову в водоем, а туловище - в сточную канаву. Пулен убил
жену; Жан Мартен застрелил старика отца, когда тот открывал окно; Кастень -
тот самый врач, что отравил своего друга: под видом лечения он подбавлял ему
отравы; и рядом с этими четырьмя - страшный безумец Папавуан, убивавший
детей ударом ножа по черепу. "Вот какие у меня были здесь предшественники",
- содрогаясь всем телом, подумал я. Стоя тут, где стою я, эти кровожадные
убийцы додумывали свои последние думы! В тесном пространстве под этой стеной
они, как дикие звери, метались в последние часы! Промежутки между их
пребыванием были очень короткие; по-видимому, этой камере не суждено
пустовать. По их непростывшему следу сюда явился я. И я в свой черед
последую за ними на Кламарское кладбище, где растет такая высокая трава!
такие мысли довели меня до лихорадки; только в то время как я был поглощен
ими, мне вдруг почудилось, что роковые имена выведены на темной стене
огненными буквами. В ушах зазвенело, глаза заволокло кровавым маревом, и
вслед за тем мне померещилось, что камера полна людей, странных людей,
которые держат собственную голову в левой руке, поддев ее за губу, потому
что волос ни у кого нет. И все грозят мне кулаком, кроме отцеубийцы. Я в
ужасе зажмурился, но от этого все стало еще явственнее.
несомненно, сошел бы с ума, если бы меня вовремя не отрезвило какое-то
непонятное ощущение. Я уже близок был к обмороку, как вдруг почувствовал у
себя на голой ноге ползущие мохнатые лапы и холодное брюшко - потревоженный
мною паук удирал прочь. Это окончательно отрезвило меня. Ах, какие страшные
призраки! Да нет же, то был просто дурман, порождение моего опустошенного,
исстрадавшегося мозга. Химера в духе Макбета! Мертвые мертвы, эти же тем
более. Они накрепко замурованы в могиле, в тюрьме, из которой не убежишь.
Как же я мог так испугаться? Двери гроба не открываются изнутри.
XIII
двери, скрежетали засовы, щелкали висячие замки, звякали связки ключей у
пояса надзирателей, сверху донизу сотрясались лестницы под торопливыми
шагами, и голоса перекликались по длинным коридорам из конца в конец. Соседи
мои по каземату, отбывавшие наказание, были веселее обычного. Казалось, весь
Бисетр смеется, поет, суетится, пляшет.
внимательно и удивленно прислушивался.
праздник ли сегодня в тюрьме.
кандалы на каторжников, которых завтра отправляют в Тулон. Хотите поглядеть?
Малость развлечетесь.
отвратительному. Я согласился. Приняв, как полагается, меры, исключающие
возможность побега, надзиратель отвел меня в маленькую пустую камеру безо
всякой мебели с забранным решеткой окном, но с окном настоящим, из которого
было видно небо.
будете, как король в своей ложе.
точно стеной, огороженный огромным каменным зданием в семь этажей. Какое
безрадостное зрелище представлял собой этот обветшалый, голый
четырехсторонний фасад, с множеством забранных решетками окон, к которым на
всех этажах прижимались испитые, мертвенно бледные лица, одно над другим,
словно камни в стене, и каждому служили своего рода рамкой железные
переплеты решетки. Это были заключенные, зрители той церемонии, участниками
которой они станут рано или поздно. Так, должно быть, души грешников льнут к
окошкам чистилища, выходящим в ад.
зоркие, живые, горящие, как уголь, глаза.
одном крыле (в том, что обращено на восток) есть посередине проем,
загороженный железной решеткой. За решеткой находится второй двор, поменьше
первого, но тоже обнесенный стенами с потемневшими вышками.
посредине врыт железный столб с изогнутым в виде крюка концом, на который
полагается вешать фонарь.
распахнулись. Громыхая железом, во двор грузно вкатилась телега под конвоем
неопрятных, отталкивающего вида солдат в синих мундирах с красными погонами
и желтыми перевязями. Это стража привезла кандалы. Грохот телеги сразу же
вызвал ответный шум во всей тюрьме; зрители, до той минуты молча и
неподвижно стоявшие у окон, разразились улюлюканьем, угрозами,
ругательствами, - все это вперемежку с куплетами каких-то песенок и взрывами
хохота, от которого щемило сердце. Вместо лиц - дьявольские хари. Рты
перекосились, глаза засверкали, каждый грозил из-за решетки кулаком, каждый
что-то вопил. Я был потрясен, увидев, сколько непогасших искр таится под
пеплом.
Парижа, приметных по опрятному платью и перепуганному виду, невозмутимо
принялись задело. Один из них взобрался на телегу и стал швырять остальным
цепи, шейные кольца для дороги и кипы холщовых штанов. Затем они поделили
работу: одни раскладывали на дальнем конце двора длинные цепи, называя их на
своем жаргоне "бечевками", другие разворачивали прямо на земле "шелка",
иначе говоря штаны и рубахи; а наиболее опытные, под надзором своего
начальника, приземистого старикашки, проверяли железные ошейники, испытывали
их прочность, выбивая ими искры из каменных плит. Язвительные возгласы
заключенных перекрывал громкий смех каторжников, для которых все это
готовилось и которые сгрудились у окон старой тюрьмы, выходивших на малый
двор.
мундире, которого величали "господин инспектор", отдал какое-то распоряжение
смотрителю тюрьмы; не прошло и минуты, как из двух или трех низеньких дверей
одновременно во двор с воем хлынула орава ужасающих оборванцев. При их
появлении улюлюканье из окон стало еще громче. Некоторых из них -
прославленных представителей каторги - встречали приветственными криками и
рукоплесканиями, а они принимали это как должное, с горделивым достоинством.



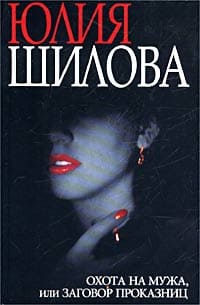


 Контровский Владимир
Контровский Владимир Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий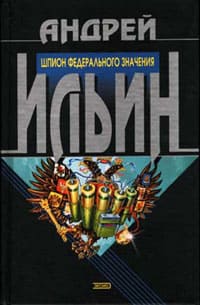 Ильин Андрей
Ильин Андрей Пехов Алексей
Пехов Алексей Чернецов Андрей
Чернецов Андрей Маккарти Кормак
Маккарти Кормак