небесного свода, который от зенита до горизонта был окутан огромной тучей.
Из этой тучи и падал дождь, о котором речь шла выше. Обратите внимание, как
в моем рассказе все взаимосвязано. И нелегко ведь было решить, какая часть
небесного свода наименее мрачная, ибо на первый взгляд небеса кажутся
одинаково мрачными, независимо от его направления. Но немного потрудившись,
в жизни моей случались моменты, когда я трудился, я пришел к определенному
выводу, то есть принял решение по этому вопросу. Таким образом, я смог
продолжить свой путь, сказав: Я иду к солнцу, - то есть, теоретически, на
восток или на юго-восток, а это значит, что я больше не у Лусс, я ушел от
нее и снова пребываю в окружении предустановленной гармонии, которая
созидает такую гармоничную музыку, а она гармонична для всех, кто ее слышит.
Люди раздраженно сновали вокруг меня, большинство из них кто под прикрытием
зонта, кто в менее надежных непромокаемых плащах. Некоторые укрываюсь под
деревьями и арками. И среди тех, более мужественных или менее нежных, кто
шел мне навстречу или обгонял меня, и тех, кто остановился, чтобы не
промокнуть, многие, должно быть, говорили: Лучше бы я поступил, как они, -
подразумевая под "они" ту категорию, к которой сами не принадлежали, или
что-то в этом роде, так мне кажется. А многие, должно быть, радовались своей
находчивости и продолжали бороться с непогодой, причиной их находчивости.
Заметив юношу жалкого вида, одиноко дрожащего в узком дверном проеме, я
вспомнил вдруг о решении, принятом в день моей неожиданной встречи с Лусс и
ее собакой, ведь именно эта встреча помешала мне исполнить мое решение. Я
подошел к юноше и встал рядом с ним, весь облик мой, как мне казалось,
говорил: вот умный человек, последую-ка я его примеру. Но прежде чем я
произнес свою краткую речь, которая, по замыслу, должна была выглядеть
импровизацией, именно поэтому я и не произнес ее сразу, он вышел под дождь и
удалился. Своим содержанием речь моя могла если и не оскорбить, то, по
крайней мере, удивить, и потому чрезвычайно важно было произнести ее в
подходящий момент и соответствующим тоном. Приношу извинения за все эти
подробности, не пройдет и минуты, как мы продолжим наш путь еще быстрее,
гораздо быстрее. Чтобы потом, возможно, вновь погрязнуть в обилии презренных
подробностей. Которые, в свою очередь, снова уступят место необозримым
фрескам, набросанным наспех, без вдохновения. Человек разумеющий сам
заполнит возникшие пустоты. И вот уже я, в свою очередь, один, в дверном
проеме. Без надежды, что кто-нибудь подойдет и встанет рядом, и все же не
исключая такой возможности, не исключая. Получилась недурная карикатура на
мое душевное состояние в тот момент. В итоге я остался там, где и был. У
Лусс я унес немного столового серебра, пустяки, главным образом массивные
чайные ложки и иную мелочь, назначение которой я понимал не вполне, но
которая обладала, как мне показалось, определенной ценностью. Среди этой
мелочи был один предмет, который вспоминается мне и сейчас, иногда. Он
состоял из двух крестов, соединенных в точках пересечения бруском, и
напоминал крошечные козлы для пилки дров, с той, однако, разницей, что
кресты у настоящих козел не идеальные, а с усеченными вершинами, тогда как
кресты той вещицы, о которой я говорю, были идеальными, то есть образованы
двумя идентичными римскими пятерками, причем верхняя - раствором вверх, как
она обычно и пишется, а нижняя - раствором вниз, или, говоря более точно, из
четырех абсолютно одинаковых римских пятерок, две из которых я уже
обрисовал, а еще две, одна справа, другая слева, с раствором,
соответственно, налево и направо. Но вряд ли уместно останавливаться сейчас
на левом и правом, верхнем и нижнем. Ибо у вещицы этой отсутствовало так
называемое главное основание, и она с одинаковой устойчивостью стояла на
любом из четырех своих оснований и выглядела при этом совершенно одинаково,
что для козел просто немыслимо. По-моему, этот загадочный инструмент до сих
пор где-то у меня хранится, я так и не смог заставить себя продать эту
вещицу, даже в самой крайней нужде, ибо мне не удалось понять, для какой
цели она служит, ни малейшего представления на этот счет. Иногда я доставал
ее из кармана и пристально в нее всматривался, взглядом полным удивления и
нежной привязанности, если только в то время я еще был способен на
привязанность. Какое-то время она вызывала во мне, полагаю, что-то вроде
благоговения, ибо я ничуть не сомневался, что эта вещица имеет некое весьма
специальное предназначение, которое навсегда от меня ускользнуло. И потому,
не подвергаясь ни малейшему риску, я мог бесконечно над ней размышлять. Ибо
ничего не знать - это ничто, не хотеть ничего знать - то же самое, но не
иметь возможности что-либо знать, знать, что ты никогда не сможешь это
узнать - значит обрести душевный покой, мир, который нисходит в душу
нелюбопытного исследователя. Вот тогда-то и начинается истинное деление,
двадцати двух на семь, например, и страницы заполняются наконец истинными
цифрами. Но в этом вопросе лучше ничего не утверждать. Несомненным же мне
кажется то, что, уступив очевидности или, вернее, очень большой вероятности,
я покинул убежище дверного проема и начал продвигаться вперед, медленно
рассекая воздух. Есть упоение, по крайней мере должно быть, в движении на
костылях. В череде маленьких перелетов, в скольжении над самой землей.
Взлетаешь, приземляешься среди толпы полноценных пешеходов, которые боятся
оторвать ступню от земли, прежде чем не пригвоздят к ней другую. Но мое
ковыляние по воздуху эфирнее любого, самого жизнерадостного их ускорения.
Впрочем, это всего лишь рассуждения, в основе которых лежит анализ. И хотя
сознание мое по-прежнему было занято матерью и желанием узнать, далеко ли до
нее, оно постепенно высвобождалось; из-за столового серебра в моих карманах,
возможно, но вряд ли, и из-за того еще, что вопрос о матери преследовал меня
давно, а сознание не может вечно размышлять над одним и тем же, время от
времени ему необходимы новые заботы, чтобы затем с обновленным пылом
вернуться к заботам давно прошедшим. Но допустимо ли назвать заботу о матери
старой или новой? Думаю, что нет. Хотя доказать это мне было бы трудно.
Единственное, что я могу утверждать без боязни, так это то, что все более
утрачивал интерес к тому, в каком городе я нахожусь, скоро ли окажусь у
матери и улажу ли с ней наше дело. Суть этого дела становилась для меня все
более и более расплывчатой, но полностью так и не исчезла. Ибо дело было
нешуточное, и я занялся им всерьез. На протяжении всей своей жизни я то и
дело им занимался, кажется, так. Да, конечно, в той степени, в какой я
вообще был в состоянии чем-либо заниматься, я занимался тем, чтобы уладить
это дело между мной и матерью, но успеха так и не достиг. Когда, обращаясь к
самому себе, я говорил, что время уходит и что скоро будет поздно, что уже,
возможно, поздно уладить дело, о котором идет речь, я чувствовал, как меня
относит к другим заботам, к другим призракам. И куда больше, чем узнать
название города, спешил я теперь его покинуть, даже если это был мои родной
город и в нем так долго ждала меня и, возможно, продолжает ждать моя мать.
Мне показалось, что, двигаясь по прямой, я рано или поздно должен буду его
покинуть, и я старательно начал движение, не мешая, впрочем, вращению Земли
сносить меня вправо от слабого света, к которому я продвигался.
Настойчивость моя восторжествовала; спускалась ночь, когда я достиг
крепостной стены, очертив дугу в добрую четверть круга, навигации я не
обучался. Признаюсь, что я останавливался для отдыха, но ненадолго,
чувствовал, что надо спешить, возможно, в ошибочном направлении. Но у
сельской местности свои законы и свои судьи, на первых порах. Преодолев
развалины крепостной стены, я вынужден был признать, что небо прояснилось,
прежде чем скрыться под другим покровом, ночи. Да, громадная туча
разорвалась, обнажив кусками небо, бледное, умирающее; и солнце, диск
которого уже не был виден, давало о себе знать мертвенными языками пламени,
стремительно возносящимися к зениту, опадающими и снова возносящимися, и
солнце было еще бледнее и безжизненнее неба и, не успев разгореться,
обречено было потухнуть. Явление это, если я верно вспоминаю, было когда-то
характерно для моего края. Сегодня, возможно, его характеристики другие.
Впрочем, не могу понять, как я, со своими глазами, никогда не покидавший
свой край, имею право рассуждать о его характеристиках. Да-да, мне так и не
удалось его покинуть, даже о его границах я не имел ни малейшего
представления. Но был уверен, что они далеко, очень далеко. Эта уверенность
ни на чем не основывалась, это была просто вера. Ибо если бы мой край
кончался не ближе того места, куда могли занести меня ноги (и костыли), я,
безусловно, почувствовал бы, как он медленно меняется. Насколько мне
известно, ни один край не оканчивается вдруг, а постепенно переходит в
какой-то другой. Но ничего похожего я не замечал, как бы далеко и в каком бы
направлении я ни уходил, - надо мной все то же небо, подо мной все та же
земля, точь-в-точь, и так день за днем, ночь за ночью. С другой стороны,
если один край и впрямь переходит в другой постепенно, что еще требуется
доказать, то, вполне вероятно, я покидал мой край много раз, думая при этом,
что нахожусь в его пределах. И все же я предпочел довериться своей
простодушной вере, которая говорила: Моллой, твой край огромен, ты ни разу
его не покидал и никогда не покинешь. И где бы ты ни странствовал в его
пределах, все в нем будет неизменно, останется прежним. А если это так,
значит, перемещения мои имеют отношение не к местам, исчезающим по мере
перемещения, а к чему-то другому, например, к перекошенному колесу, которое
судорожными, непредвидимыми толчками несло меня от усталости к отдыху и
наоборот. Но и теперь, когда я больше не странствую, совершенно, и вообще
едва шевелюсь, ровно ничего не изменилось. Границы моей комнаты, моей
постели, моего тела так же далеки от меня, как были далеки границы моего
края во времена моих странствий. И, сотрясая меня, повторяется череда -
бегство, отдых, бегство, отдых - в бесконечном Египте, где нет уже ни
матери, ни младенца. Когда я смотрю на свои руки, лежащие на простыне,
которую они безумно любят комкать, они мне не принадлежат, они принадлежат
мне меньше, чем когда бы то ни было, нет у меня рук, есть чужая пара,
играющая с простыней, похоже на любовную игру, кажется, одна из них пытается
взгромоздиться на другую. Но игра эта длится недолго, я понемногу возвращаю
руки себе, время отдыха. С ногами происходит то же самое, иногда, когда я
вижу их у изножья кровати, одну с пальцами, другую без. Ноги мои заслуживают
большего внимания, ибо они, еще минуту назад подобные рукам, в настоящее
время обе неподвижны и воспалены, и я ни на минуту не в силах забыть о них,
как забываю порой о руках, более или менее целых и невредимых. И все-таки я
забываю и о ногах и просто смотрю на ту и другую, и они в это время смотрят
друг на друга, где-то далеко-далеко от меня. Но мои ноги - это все же не мои





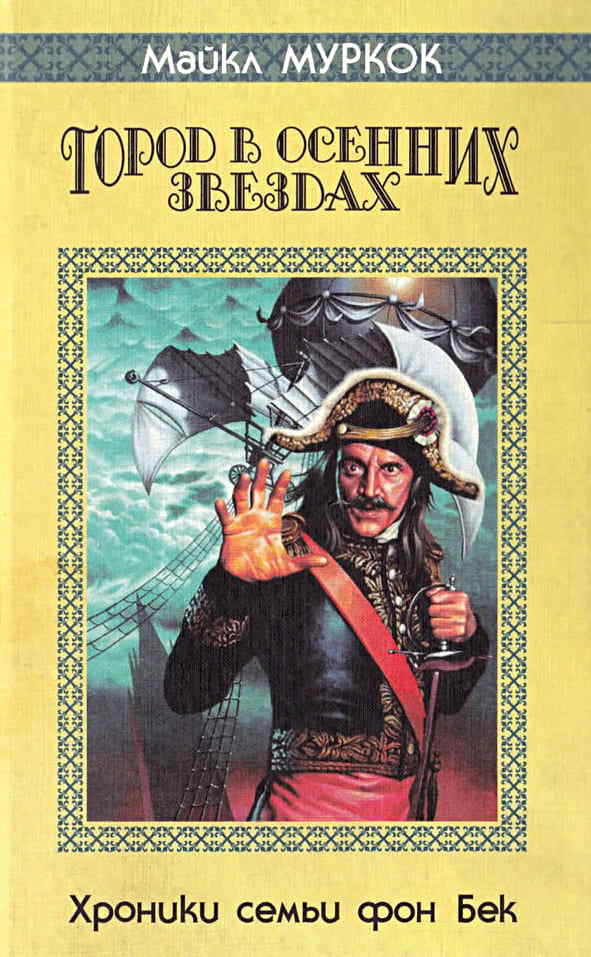
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Белоусов Валерий
Белоусов Валерий Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий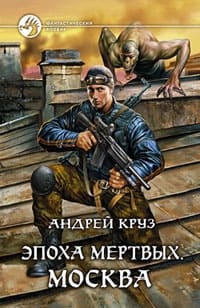 Круз Андрей
Круз Андрей Земляной Андрей
Земляной Андрей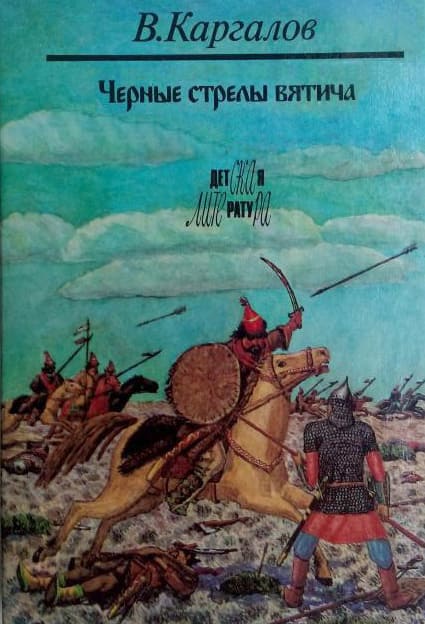 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим