кролику ненужных страданий, не понимая, что в действительности он трудился
впустую. Чаще всего такое случается по ночам, ночью страх сильнее. Что же
касается кур, то они, как замечено, более упорно цепляются за жизнь, и
некоторые из них, с уже отрубленной головой, прыгают и мечутся, прежде чем
рухнуть. Голуби тоже менее впечатлительны и иногда даже вырываются, пока им
не свернут шею. Госпожа Ламбер тяжело дышала. Чертенок! - воскликнула она.
Но Сапо был уже далеко, он уносился, раздвигая руками высокие луговые травы.
Вскоре Ламбер, а затем и его сын, учуяв приятный запах, появились на кухне.
Сидя за столом, избегая смотреть друг другу в глаза, они ждали. Но женщина,
мать, подходила к двери и выкликала. Лиззи, кричала она снова и снова и
возвращалась на свое место. Она видела, что уже взошла луна. После
некоторого молчания Ламбер объявил: Завтра прирежу Белянку. Разумеется, он
воспользовался не этими словами, но смысл был именно этот. Однако ни жена,
ни сын не одобрили его - жена потому, что предпочла бы прирезать Чернушку, а
сын придерживался того мнения, что резать козлят, будь то Белянка или
Чернушка, еще слишком рано. Но Толстый Ламбер велел им попридержать языки и
направился в угол комнаты за корзиной с ножами, их было три. Необходимо было
снять с них смазку и наточить один о другой. Госпожа Ламбер опять подошла к
двери, прислушалась, окликнула. Где-то далеко-далеко отозвалось стадо. Она
возвращается, сказала госпожа Ламбер. Но прошло немало времени, прежде чем
она вернулась. Когда с едой было покончено, Эдмон отправился в кровать,
чтобы в тиши и покое предаться онанизму, пока не пришла сестра, ибо они
делили с ней одну комнату. Нельзя сказать, что благопристойность его
сдерживала, когда сестра была рядом. Так же как и ее, когда рядом находился
брат. Их кровати стояли впритык, перестановка была невозможна. Так что Эдмон
направился в постель без особых на то причин. Он с удовольствием переспал бы
с сестрой, отец его тоже, я хочу сказать, что отец с удовольствием переспал
бы с дочерью, - кануло в Лету то время, когда он с удовольствием переспал бы
с сестрой. Но что-то их удерживало. И, казалось, она не сильно этого желала.
Но она была молода. В воздухе пахло кровосмешением. Госпожа Ламбер,
единственный член семьи, ни с кем спать не желавший, с безразличием
наблюдала его приближение. Она вышла из кухни. Оставшись наедине с дочерью,
Ламбер, сидя, наблюдал за ней. Припав к плите, она застыла на корточках. Он
велел ей поесть, и она принялась за остатки кролика, из горшка, ложкой. Но
скучно долго наблюдать за человеком, даже если и готов на это, и неожиданно
Ламбер увидел дочь в другом месте и занятую совсем другим делом, нежели
погружение ложки в рот, на пути от горшка, и в горшок, на пути от рта. При
этом Ламбер мог поклясться, что не сводил с дочки глаз. Он сказал: Завтра мы
зарежем Белянку, можешь взять ее себе, если хочешь. Но видя, что она
продолжает грустить и щеки ее заливают слезы, он направился к ней.
Ламберы, Ламберы, при чем тут Ламберы? В сущности, ни при чем. Но пока я
занимаюсь ими, теряется другое. Как продвигаются мои планы, мои планы, не
так давно у меня были планы. Возможно, мне осталось прожить еще лет десять.
Ламберы! И тем не менее я попытаюсь продолжить, немного, мои мысли где-то
блуждают, я не могу оставаться на месте. Я слышу свой голос, доносящийся
издалека, из далей моего сознания, он рассказывает о Ламберах, обо мне, мое
сознание блуждает, далеко отсюда, в собственных развалинах.
подвернула фитиль у лампы, что делала всегда, перед тем как ее задуть,
потому что не любила гасить еще не остывшую лампу. Когда она решила, что
плита и заслонка достаточно остыли, она поднялась и закрыла вьюшку.
Мгновение постояла в нерешительности, подавшись вперед и уперев руки в стол,
потом снова села. Трудовой день ее кончился, и начались другие труды,
ежедневные мучения, приносимые слепой жаждой жить. За столом или на ходу она
переносила их лучше, чем в постели. Из глубин бесконечной усталости
доносился ее несмолкаемый вздох, тоска по дню, когда была ночь, и по ночи,
когда был день, и днем и ночью, со страхом, по свету, о котором она слышала,
но которого, как ей говорили, она не узрит, потому что он не похож на
знакомый ей свет, не похож на летний рассвет, который, она знала, снова
застанет ее на кухне, где она будет сидеть на стуле, выпрямившись или
склонившись на стол, - слишком мало сна, слишком мало отдыха, но больше, чем
в постели. Часто она поднималась и ходила по комнате или обходила ветхий
дом. Пять лет это уже продолжалось, пять или шесть, не больше. Она внушала
себе, что страдает какой-то женской болезнью, но верила этому только
наполовину. На кухне, пропитанной ежедневными заботами, ночь казалась не
такой темной, день не таким мертвым. Когда становилось совсем плохо, она
сжимала края ветхого стола, за которым скоро опять соберется семья и будет
ждать, когда она им подаст, и судорожно шарила по нему, ощупывая стоявшие
наготове пожизненные неизбывные горшки и кастрюли, - это помогало. Она
распахнула дверь и выглянула. Луна скрылась, но звезды мерцали. Она стояла и
смотрела на них. Такая картина ее иногда утешала. Она подошла к колодцу,
потрогала цепь. Бадья была опущена на дно, ворот на замке. Так-то вот.
Пальцы ее гладили изогнутые звенья цепи. Сознание неустанно порождало
неясные вопросы, они громоздились и медленно осыпались. Некоторые, кажется,
относились к дочери, несущественные, сейчас она без сна лежала в постели и
слушала. Когда до нее донеслись шаги матери, она уже готова была встать и
спуститься вниз. Но только на следующий день, или через день, она решилась
повторить то, что сказал ей Сапо, а именно, что он уходит и больше не
вернется. Тогда, как делают люди, когда кто-нибудь, даже едва знакомый,
умирает, Ламберы припомнили о нем все, что могли, помогая друг другу и
стараясь согласовать воспоминания. Но все мы знаем, как слаб этот огонек,
едва мерцающий в пугающем мраке. А согласие приходит только позже, вместе с
забвением.
волевых движений. Это случилось, должно быть, в то время, когда я все еще
искал человека, которому мог бы довериться и который доверился бы мне.
Следуя совету, я так широко раскрывал глаза, что собеседник приходил в
восторг от созерцания их бездонных глубин и того свечения, которым озаряли
они все то, что мы не досказали. Наши лица настолько сближались, что я
чувствовал, как меня обдувают горячие струи его дыхания и опыляют брызги
слюны, и он, не сомневаюсь, чувствовал то же самое. Он по-прежнему стоит
перед моими глазами, только что отсмеявшийся, вытирающий глаза и рот, и я,
виден также и я, с потупленным взором и мокрыми штанами, страдающий при виде
напущенной лужицы. Поскольку теперь этот человек мне не нужен, я могу без
опаски назвать его имя: Джексон. Я жалел, что у него не было кошки, или
щенка, или, еще лучше, старой собаки. Из братьев меньших он имел одного
только серо-розового попугая. Джексон все пытался научить его говорить:
Nihil in intellectu и т. д. С первыми тремя словами птица справлялась
хорошо, но произнести известную сентенцию целиком ей было не под силу и
дальше раздавались только жалобные и пронзительные крики. Джексона это
раздражало, он придирчиво заставлял его повторять все сначала. Попка
приходил в бешенство и забивался в угол клетки. Клетка у него была чудесная,
со всеми удобствами, жердочками, качелями, желобками, кормушками,
ступеньками и точилом для клюва. Клетка была даже перегружена, лично я
почувствовал бы себя в ней стесненным. Джексон называл меня меринос, не знаю
почему, возможно, на французский манер. Но мне все же казалось, что образ
блуждающего стада вяжется с ним лучше, чем со мной. Наше знакомство было
недолгим. Я мог бы переносить его общество, но он, к сожалению, питал ко мне
отвращение, как питали его ко мне Джонсон, Уилсон, Никольсон и Уотсон, все
эти сучьи дети. Кроме них, я пытался, недолго, искать родную душу среди
представителей низших рас, красной, желтой, шоколадной и т. д. И если бы
доступ к чумным был менее сложен, я бы из кожи лез, чтобы втесаться к ним, -
строил бы глазки, ходил бочком, бросая вожделеющие взгляды, унижался и
завораживал, испытывая при этом сердечный трепет. С сумасшедшими я тоже
потерпел неудачу, мне не хватало самой малости. Так обстояло дело в то
давнее время. Но гораздо важнее то, как обстоит дело сейчас. Будучи молодым,
я испытывал к старикам почтение и благоговейный страх, теперь немею при виде
орущих младенцев. Дом буквально кишит ими. Suave mari magno, особенно старым
морякам. Какая скука. А казалось, я предусмотрел все. Если бы тело мне
подчинялось, я выбросил бы его из окна. Но, возможно, именно сознание
собственного бессилия дает мне смелость произнести это. Все одно к одному -
я связан по рукам и ногам и, к сожалению, не знаю, на каком этаже нахожусь,
скорее всего, лишь в мезонине. Хлопанье дверей, шаги на лестнице, уличный
шум не просветили меня в данном вопросе. Единственное, в чем я уверен, так
это в том, что здесь есть живые люди, надо мной и подо мной. Отсюда, по
крайней мере, вытекает, что я - не в подвале. И разве, иногда, я не вижу
небо и, иногда, через окно - другие окна, выходящие, безусловно, на мое? Но
это ничего не доказывает, я не желаю ничего доказывать. Я просто так говорю.
Возможно, в конце концов, я все-таки нахожусь в погребе, и то пространство,
которое я принимаю за улицу, не что иное, как широкая канава или траншея, на
которую выходят другие погреба. Ну, а шумы, доносящиеся снизу, поднимающиеся
шаги? Не исключено, что есть другие погреба, еще глубже моего, почему бы и
нет? В таком случае, снова встает вопрос о том, на каком же я этаже, простое
заявление, что я - в подвале, ничего не решает, если подвалы располагаются
ярусами. А что касается шумов, которые, как я утверждаю, доносятся снизу, и
шагов, поднимающихся ко мне, то происходит ли это на самом деле? Такими
доказательствами я не располагаю. Но сделать отсюда вывод, что я просто
подвержен галлюцинациям, - на такой шаг я не осмеливаюсь. К тому же я
искренне верю, что в доме находятся люди, что они входят и выходят и даже
разговаривают, а также множество очаровательных младенцев, особенно много их
стало в последнее время, родители постоянно переносят их с места на место,
опасаясь, что у них выработается привычка к неподвижности, делая это,
несомненно, в предчувствии того дня, когда дети вынуждены будут
передвигаться без их помощи. Но учитывая всю сложность положения, мне
нелегко определить наверняка то место, где они находятся, по отношению к
тому месту, где нахожусь я. И в конце концов ничто так не похоже на
поднимающиеся шаги, как шаги опускающиеся или даже просто двигающиеся
взад-вперед, на одном уровне, для того, конечно, кто понятия не имеет, где
находится и каких звуков ему ожидать, а к тому же по большей части глух как


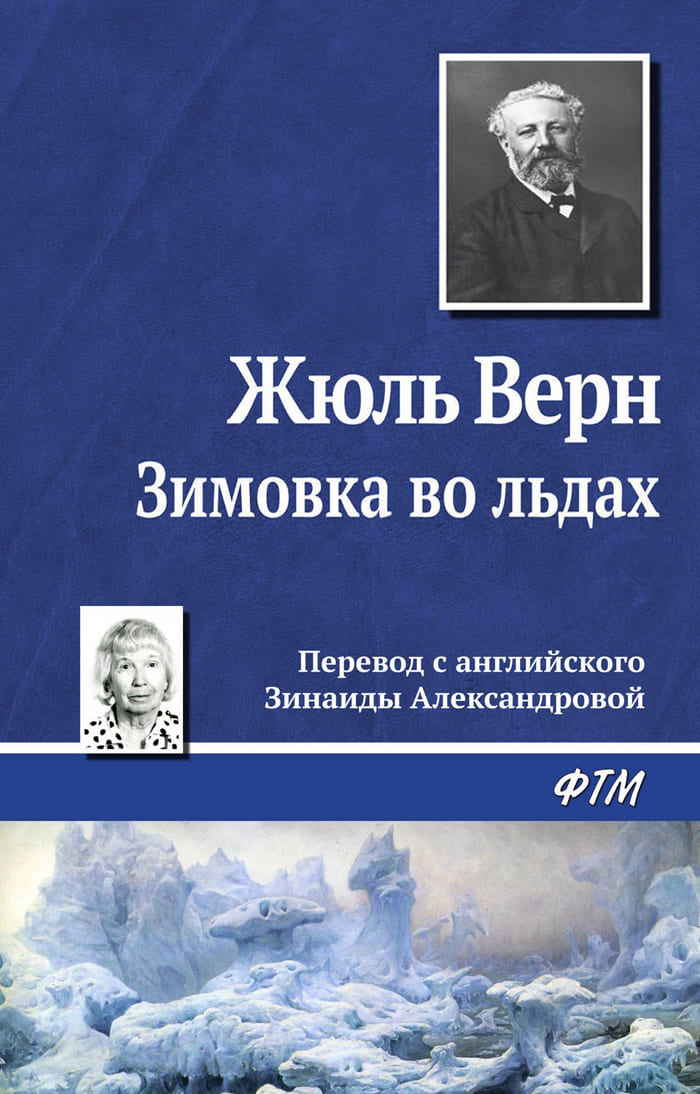



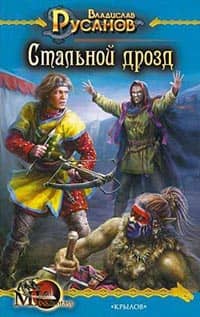 Русанов Владислав
Русанов Владислав Каменистый Артем
Каменистый Артем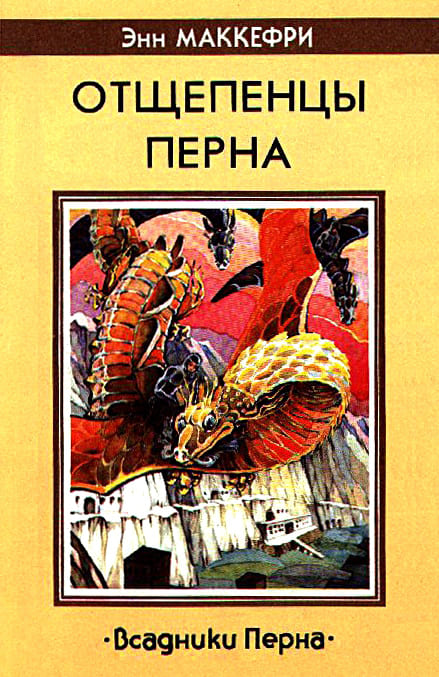 Маккефри Энн
Маккефри Энн Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена