моей жизни. Там были такие вопросы:
вообще изобрел анкету, личное дело, паспорт. Как дошли они до
этих вещей, были ли у них трудности и как им помогала
общественность.
корреспондента "Правды", поехать с нами по стране. Он настоящий
журналист, общительный, с крепкой хваткой и безошибочными
вопросами, работяга - словом, идеальный спутник, да к тому же
знающий страну. Но Яснев только вздохнул. Несмотря на вольную
беспаспортную жизнь, он не имел права выехать из Канберры. О
разрешении надо заранее хлопотать в австралийских
министерствах.
Канберре. Я слушал его и радовался. Казалось бы, что человеку
надо - у него комфортабельный коттедж, машина, библиотека,- и
вот, оказывается, грош этому цена, если нет возможности
свободно заниматься своим журналистским делом - ездить,
знакомиться с людьми... Я давно не слышал такой сильной речи,
жаль, что ее нельзя тут привести. Ее невозможно даже
процитировать. Но, честное слово, это была великая речь,
выстраданная и продуманная тоскливыми канберрскими вечерами.
СИДНЕЙ
в салоне погасили свет, чтобы лучше был виден город. Таков
обычай. В самолете, кроме нас, все были австралийцы, и все
равно они оторвались от своих банок с пивом и прильнули к
окнам. Сидней вползал под крыло, огромный, как Млечный Путь, со
своими созвездиями и галактиками. С одной стороны огни резко
обрывались чернотой залива, а с другой им не было конца, они
распылялись хвостом кометы, теряясь в ночи. На реактивной
высоте, откуда все кажется крохотным, Сидней оставался большим,
чересчур большим, непонятно большим. Сверху разобраться в этом
было нельзя. И когда в другой раз мы подлетали к Сиднею днем,
красный черепичный прибой его крыш поражал размерами. С земли
Сидней выглядит иначе. Он низкорослый, состоящий из двухэтажных
коттеджей, и лишь центр несколько выше. Город как бы сплющен,
раскатан, как блин. Он беспорядочно составлен из тех же
коттеджей, прослоенных неизменными садиками. Поэтому город
разросся невероятно. Расстояния в двадцать - тридцать
километров от дома до работы считаются здесь обычными.
Сложность такой жизни стала нарастать в последние годы. Город
хочет расти в высоту. Словно фонтаны из бетона и стекла,
прорываются вверх высотные дома. В прорывах еще нет системы.
Они беспорядочны, как гейзеры. Рядом с новыми громадами
коттеджи становятся милым прошлым. В деловых кварталах
солидные, облицованные мрамором банки, офисы, построенные
каких-нибудь сорок - пятьдесят лет назад, выглядят
старообразно. Процесс старения происходит ускоренно, Сидней
обзаводится своей стариной, появляется старый Сидней.
Загадочная штука эта старина. Почему-то старинный дом всегда
считается красивым. Мне никогда не попадалось, чтобы храм,
допустим тринадцатого - четырнадцатого века, был уродлив. Он
обязательно - великолепный, изумительный, гармоничный. Как
будто тогда не существовало бездарных архитекторов. Никому не
приходит в голову, что Колизей был когда-то новостройкой и
древние римляне поносили последними словами этот стадион за
модерповость, или излишества, или подражательство - смотря по
тому, какая тогда была установка.
этим он мил и отличается от всех других великих городов мира.
Никаких раскопок, храмов, фресок, старых костелов, исторических
мест. Поэтому Сидней не имеет перечня обязательных памятников
для осмотра. В Сиднее я впервые избавился от страха что-то
упустить, чего-то не увидеть. В Сиднее можно не толкаться по
музеям, Сидней свободен от процессий туристов, листающих
путеводители, гидов с микрофонами, от исторических ценностей,
восторгов, императоров, классиков и цитат. В Сиднее надо просто
бродить по улицам, магазинам, сидеть в баре, знакомиться.
своим. Это город, что называется, с головы до пят; на его
улицах, в порту среди докеров, в кварталах Ву-ла-Мулла мы
чувствовали себя свободно, мы подпевали его песенкам, смеялись
шуткам. Сидней стал нашей слабостью. Мы принимали его пусть
поверхностно, пусть некритично, но таким мы увидели его, таким
он остался в памяти. Наконец, именно такой Сидней показывали
нам наши друзья-сиднейцы, пожизненно и яростно влюбленные в
свой город.
глухим забором, в заборе были пропилены квадратные окошечки. Я
долго не мог понять их назначения. Иногда прохожие совали туда
головы. Однажды я спросил у Моны Бренд, в чем тут дело.
они обязательно хотят выяснить, что за забором. Кроме того,
сиднейцы любят вмешиваться, подавать советы, поэтому для
удобства сделали окошки. И надпись, видишь: "Для советчиков".
шли с Моной и совершенно случайно обнаружили метро. Мона,
которая обожает свой город, обрадовалась чрезвычайно. Она не
могла скрыть удивления, когда мы спустились вниз и поехали на
подземке. Открытие нисколько не смутило ее, - никто не может
похвастаться, что знает Сидней. Мы ехали однажды с Терри в
машине, и я, заметив посреди площади конную статую, попробовал
выяснить у Терри, кто это. Надо было видеть физиономию Терри,
когда он, притормозив машину, с глубоким интересом оглядел
памятник. Еще некоторое время он ехал задумавшись, потом
уверенно сказал:
хорошо знал свой город, чтобы его могли интересовать детали. Он
не знал, кому памятник, но зато он знал каждого газетчика,
бармена, хозяев магазинчиков, - кажется, он знал всех
сидцейцев. Впрочем, когда я присмотрелся, оказалось, что вообще
все в Сиднее знакомы между собой. Чтобы вступить в разговор, не
нужно никакого предлога. Разговор начинают с середины, как
закадычные друзья. Я стоял днем на Кинг-Кроссе и
фотографировал. Мужчина, несший на голове ящик, остановился и
сказал:
Здесь лучше вечером снимать. Господи, сразу видно, что
приезжий. Откуда? Ого, из Москвы! А я, между прочим, из
Шотландии. Коплю деньги, хочу съездить, я ведь мальчишкой из
дому уехал. Что ни говори, все же родина. Согласен?
лучше в Москву поехать? Посуди сам, чего я дома не видел? А про
вас столько болтают, и все разное. Надо самому разобраться.
Согласен?
дело, я четыре года коплю. Пока у меня нет детей, надо ездить.
Потом не сдвинешься. Надо бы толком обсудить, да некогда мне.
Прошу тебя, перестань пленку тратить! Приходи сюда вечером,
упрямая твоя голова, тогда убедишься, кто прав.
выглядела нелюдимостью. Мне хотелось научиться вот так же, с
ходу открываться людям, не требуя взамен ничего, и не бояться
того, что покажешься бесцеремонным, или назойливым, или
смешным, - ничего не бояться.
критикуя городские власти.
равно нам было приятно чувствовать себя вместе со
всеми бунтовщиками, непокорными, вольнолюбивыми сиднейцами.
лет, о сиднейских девушках, о пивных, о железной дороге, о
домах Вула-Мулла.
построить там какие-то казенные здания. Домишки немедленно
ощетинились, украсились язвительными надписями. Каждый дом -
это эпиграмма в адрес властей. Огромные буквы вьются между
окон, изгибаются над дверью: "Пожалуйста, мы уедем отсюда в ваш


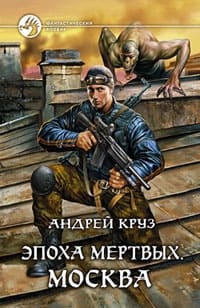



 Посняков Андрей
Посняков Андрей Трубников Александр
Трубников Александр Перумов Ник
Перумов Ник Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Панов Вадим
Панов Вадим Каменистый Артем
Каменистый Артем