плечи, еще украшенные погонами. По погонам -- младший лейтенант, по годам
ему еще призываться рано. А он уже отвоевал свое.
умудрился напиться Старых, кричал, что все они здесь ненастоящие раненые, он
один настоящий, махал костылем, и налитые глаза были бешеными. Силой уложили
его спать.
коридора, как в розовом дыму, затоптались, затоптались на пороге двое
санитаров, разворачиваясь с носилками, и внесли на Гошину койку нового
раненого. Из свежих бинтов, как из высокого шлема, глядело желтое лицо,
желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал устало черные,
похоже, армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно -- и
трудно было в это поверить,-- что пуля навылет прошла у него через голову,
через мозг: над этим ухом вошла, над этим вышла. А он-- живой, только
тихий-тихий, совсем покорный.
часть удаленной у него черепной кости. Была она, как скорлупа грецкого ореха
изнутри. И-- яркая, свежая кровь на ватке.
такое, ни до чего не доторк-нуться.
Китенева. А он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок,
словно не ходил недавно еще перегнутый болью. Скоро он наденет гимнастерку,
боевые наплечные ремни... Глаза Тамары стали увеличиваться, засияли слезами.
изморози, зеленый свет месяца. Под дверью электрический свет из коридора.
Все, как всегда, а ему беспокойней и беспокойней. Вдруг понял: раненый умер,
тот, на Гошиной койке.
нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца
лицо покойника. В черной глубине глазниц -- навсегда слипшиеся веки. И весь
тяжело, неподвижно и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков как нагнулся
над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками. Открылись
глаза, живые, влажные от сна, глянули на него.
отнялся.
глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. Тот два раза
прикрыл глаза веками: хватит, мол, спасибо.
ветер переменился, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер, с их
Юго-Западного фронта. Только не донесет он сюда с тех полей ни голосов, ни
выстрелов, ни разрывов. Здесь война грохочет только в кино. И мальчишки
после кино бегают с палками-ружьями. А там, где фронт прошел, там уже и дети
не играют в войну.
спертое, надышанное тепло, подрожал, озябший, под одеялом. Уснул не сразу. И
днем отчего-то ему было беспокойно, томило предчувствие беды. Когда опять
пришли в госпиталь школьники, он сразу увидел: Саши нет с ними. "А у ей мать
в больницу отвезли дак..."-- сказал ему паренек, который с мандолиной
выходил за ней на сцену. Сам еще не зная, зачем ему, Третьяков расспросил,
где живет Саша, как этот дом найти, а после ужина решился. Он попросил
Китенева, не глядя в глаза:
беспомощный с одной своей рукой: ни гимнастерку надеть, ни портянки
навернуть. Старых, сам с гипсовой ногой, навертывал ему портянки. И даже
Атраковский принял в этом участие: из немногих сберегавшихся у него под
подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал,
отобрал две, проглядев каждую из них напоследок:
несильный.
остается, бушлат-- остается, сапоги...
кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела,-- у нас там
два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали. Начальник госпиталя в
любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас
капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять, обрядили, как
покойника: шинелька обезличенная не хуже Гошиной, еще ишь без рукава. Ах ты,
падла такая! Да я из тебя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо
скажет... После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучался.
как арестант, безмолвно смотрел раненный в голову старший лейтенант
Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели
шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева
осенило;
одной гимнастерке пронижет насквозь.
женской кофте.
только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя.
с тех пор, как заперли его в палате, вдохнул морозного воздуха, и глубоко
свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и
радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу,
радовался, что к Саше идет.
когда вдыхал глубже, чуть слипались, прихватывало ноздри. Неся под шинелью
прижатую к груди забинтованную руку-- ей тепло там было,-- он другой рукой
поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонью слезы со щек: встречным ветром
их выжимало из глаз, отвыкших от холода.
торчавших у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем.
На всякий случай он переждал за домом-- начнут спрашивать: кто? зачем?
почему? Вид у него беглый: шинель без погонов, пустой рукав прихвачен
ремнем-- откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять.
греться. Пока он пережидал их, накатило от паровоза белое облако, обдало
сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив
патруль внутрь. Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два
четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему.
окна, он вдруг оробел: собственно, кто его ждет здесь? То спешил, радовался,
а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала.
кухни. Третьяков потоптался на крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках,
взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом,
холод такой же, как на улице. Голая на морозе, горела над входной дверью
лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры. Каменная лестница
на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на
другой-- потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем,
расправился, пересадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному
глянцу дерматина. Вата глушила звук. Подождал. Постучал еще. Шаги. Женский
голос из-за двери:
такими красивыми",-- хотелось сказать ему, но сказал:
госпиталя к ней по делу.
женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее. Печным
теплом, керосином пахнуло из-за ее спины.
словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно
старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете
лампочки было видно его всего от шапки до сапог: вот он весь, можно его не
опасаться.
будто его же спрашивала.






 Черепнин Владимир
Черепнин Владимир Русанов Владислав
Русанов Владислав Шилова Юлия
Шилова Юлия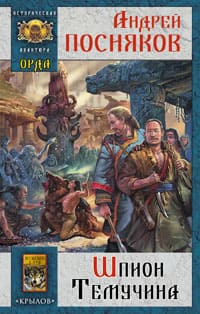 Посняков Андрей
Посняков Андрей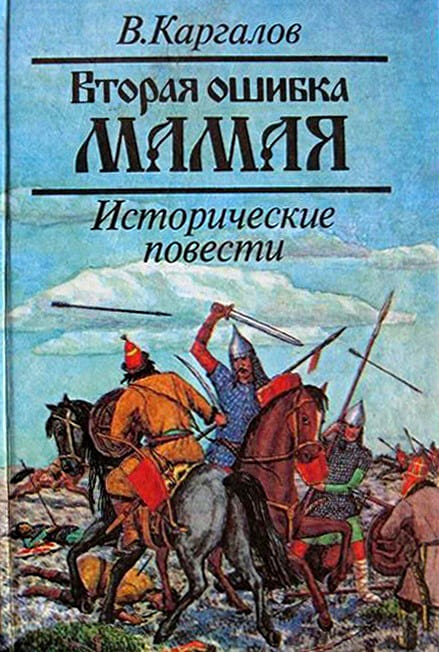 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Контровский Владимир
Контровский Владимир