в тяжелый артполк и не нарадуется, чувствует себя здесь, как в глубоком
тылу. Он не станет возражать комбату.
упруго под ногой, то вдруг обваливался, и вылезали из него, черпая
голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как
будто все в копоти, перед ним свежевыпавший снег на гребне светло белел.
Где-то слева глухо, отдаленно слышалась стрельба. Авиация не летала: при
такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах, играют в домино со
скуки. У них, наверное, и аэродромы развезло: ни взлететь, ни сесть.
вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами, нигде поблизости
пехоты не было видно: ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле,
теряющаяся в испарениях сырая даль.
горло.
веток с шуршанием обваливается подтаявший снег, лицо ощущало рассеянный свет
и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то.
блестевшими голыми ветками толклась в воздухе мошкара.
раскопал под снегом у корня прошлогоднюю, замерзшую зеленой траву, пучком,
как лук, сунул в рот, жевал, зажмуриваясь: зелени захотелось. А Третьяков
всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, оттого
что он становился ими на снег, были мокры, его знобило все сильней,
потягивало тело и ноги.
строго.-- Похоже, что пехоты нет впереди.
затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку,
махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых
разведчиков взял с собой, а одного. Позади небо было светлей поля, в темных
своих шинелях они четко виднелись на снегу; подпустят немцы близко и положат
всех четверых.
сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом
пулемет... Но никаких следов не было вокруг. Подошли.
Обухов охотно присаживался спиной под стог.
когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда
засверкало, понеслись к ним трассы пуль; немцы и днем били трассирующими.
Они уже лежали на снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними.
Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать
огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом
ударил миномет. Переждали. Вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед
пулеметчик слал яркие в тумане, сверкающие веера.
хвастался Обухов.
простуда куда-то девалась.
радуясь.
ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал
недоверчиво, снова и снова переспрашивал: "А наша, наша пехота где?" И опять
заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли: все никак не мог
принять, что их батарея, тяжелые их пушки, стоят здесь без всякого
прикрытия, почти без снарядов, а впереди -- немцы.
Третьяков. Но тот отчего-то разозлился:
курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда
связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели
наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало
ничего.
небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сена. Сидели,
вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар подымается в нем. Сильно зябла
спина, временами он не мог унять дрожь.
человек: кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое
дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев: там, не взойдя, гасла
ракета, задушенная туманом. При этом брезжущем свете разглядели четверых.
Шли по связи. На полголовы выше других-- Городилин, кто-то малорослый рядом
с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое
разведчиков сопровождали их.
Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица.
Подумал.
с тобой.
отлежался в тепле, сказал:
ГЛАВА XXV
не спадал, спекшиеся губы растрескались до крови. Казалось ему, что он не
спит совсем, бред и явь мешались в сознании. Откроет глаза: при красном
свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, подложив полевую сумку
на колени, шевелит губами. И опять-- красный сумрак между стропилами, кто-то
другой у костра, черная тень колышется позади, заслонила полсарая: снится
это ему или он видит? И все не кончалась ночь.
клубился от самой двери; из темноты сарая казалось, ступает он не через
порог, а в белое облако; нога неуверенно щупала перед собой землю.
просветлело перед глазами, пустой сарай стал выше, больше. У стены умывался
голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела, от
волосатых лопаток, он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе под мышки, с
груди и живота текло.
он чувствовал это. Подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра: там жар
остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий
пепел. В двери сарая, распахнутой рывком, стоял боец. Он еще сказать не
успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе.
Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку: влез в нее до половины, а
дальше плечи не проходят, машет руками вслепую.
на мокром снегу, испуганно вставал. И вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к
земле.
топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия, множество напрягшихся ног
месило сапогами мокрый снег с грязью.
красивое лицо, бледное до желтизны.
было видно метров на сто пятьдесят от орудий. И там, как тени, мокрые
деревья означили дорогу: с холма в низину и снова на холм. За этой чертой
все сливалось: и серый осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и
пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда, сердце в нем
сорвалось, мгновенно ослабли ноги. Возникая за деревьями, двигались по
дороге бронетранспортеры; тупые, тяжелые туши их были как сгустки тумана. И
сразу, только он увидал их, слышней, ближе стал рев моторов.
наблюдательному пункту, было все так же тихо.
вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось: "...бою!" Там
стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели.
перемещаясь за деревьями.
Звонко била кувалда по металлу: это Насруллаев в одной гимнастерке забивал




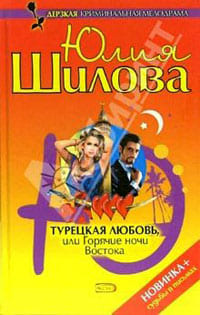

 Шилова Юлия
Шилова Юлия Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Никитин Юрий
Никитин Юрий Акунин Борис
Акунин Борис Пехов Алексей
Пехов Алексей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий