понимаешь? -- И вновь запричитала: -- О Боже, Боже мой! -- Слушай сюда, --
сказал этот Джо. -- Я про тебя все знаю, парень. Знаю, что ты творил, и
знаю, сколько принес горя, как поломал жизнь своим бедным родителям.
Вернулся, значит? Будешь опять им кровь портить? Так знай, что это -- только
через мой труп, потому что они для меня как родные, а я им скорее сын, чем
просто жилец.
razdrazh вызвал волну тошноты, тем более что этот vek на вид был примерно
того же возраста, что и мать с отцом, -- и. он еще смеет, глядите-ка, этак
по-сыновнему приобнимать ее за плечи, мол, защищает, бллин!
расплачусь. -- Ладно, даю тебе пять минут, и чтобы ты сам, твое shmotjo и
весь прочий kal из моей комнаты выметались! -- С тем я прямиком шагнул к
двери своей комнаты, пока этот uvalenn не успел остановить меня. Открыл
дверь, и у меня сердце прямо чуть на пол не вывалилось, потому что это была
уже совсем не моя комната. Вместо развешанных по стенам флагов он всюду
поналеплял фотографии боксеров -- и поодиночке, и даже целыми командами, где
- они стоят и сидят с нагло скрещенными на груди руками, а перед ними
серебряный щит с гербом. Потом вижу -- еще кое-чего не хватает. Ни
проигрывателя, ни стеллажа для дисков, а еще исчезла коробка, где я хранил
свои сокровища -- бутылки с выпивкой и durrju и два сверкающих чистотой
шприца. -- Ах ты гад voniutshi, ну ты и поработал! -- вскричал я. -- Куда ты
дел мои личные вещи, svolotsh поганая? -- Это я обращался к Джо, но ответил
мне отец:
компенсации жертвам.
кошмарно, во рту пересохло, я схватил со стола бутылку с молоком и
присосался, на что Джо неодобрительно заметил: -- Свинские у тебя манеры,
знаешь ли. А я говорю:
сын, -- грустно проговорил отец. -- Чтобы за ними было кому присматривать,
пока не оглашено завещание, пришлось нанимать специального человека. В
общем, полиция распродала твои вещи -- одежду и все прочее, чтобы оплатить
уход за кошками. Таков закон, сын. Ты, правда, никогда особым уважением к
законам не отличался. Я так и сел, а тут еще этот Джо вякает: -- Разрешение
надо спрашивать, прежде чем сесть, свинья невоспитанная! Ну, я ему сразу в
ответ;
немного улучшить свое состояние, я после этого стал говорить рассудительно и
даже с улыбкой: -- Слушай, это все-таки моя комната, разве нет? Это мой дом.
Может, вы что-нибудь скажете, па, ма? -- Однако они только хмуро на меня
поглядывали, у мамы дрожали плечи, ее мокрое от слез litso морщилось, а отец
сказал:
выкинуть Джо на улицу, верно ведь? Я в смысле, что у Джо здесь работа,
контракт на два года, и мы с ним договор заключили, верно, Джо? В смысле, мы
думали, тебе еще долго сидеть в тюрьме, а комната пропадает. -- Он явно
стыдился собственных слов, это бросалось в глаза. Поэтому я улыбнулся,
чуть-чуть вроде как кивнул и говорю:
значит, дела. А родной сын вам вроде как ненужная помеха. -- И тут, хоть
ешьте меня, хоть режьте мне beitsy, но поверьте, бллин: от жалости к себе я
прямо вроде как расплакался. А отец говорит:
смысле, что как бы мы ни решили насчет будущего, мы не можем сказать Джо,
чтобы он прямо сейчас съехал, правда, Джо? -- А этот Джо в ответ:
Хорошо ли будет, справедливо ли, если я уйду, бросив вас на милость этого
юноши, этого чудовища, которое никогда не было вам настоящим сыном? Вот он
сейчас хнычет, но это только уловки его лицемерия. Пусть идет и ищет себе
комнату где-нибудь в другом месте. Пусть поймет, насколько пути его
неправедны, пусть поймет, что скверный юноша, каким он был всегда, не
заслуживает таких чудесных родителей, как вы.
хоть знаю, на каком я свете. Никто не любит меня, никому я не нужен. Я
страдал, страдал, страдал, и все хотят, чтобы я продолжал страдать. Я понял.
справедливо, чтобы ты как следует пострадал сам. Вот здесь, за этим круглым
семейным столом, я целыми вечерами слушал рассказы о твоих подвигах, и это
было ужасно. Прямо жить после этого не хотелось, ей-богу.
тюрьме и сидел. Все, ухожу. Вы больше никогда меня не увидите. Как-нибудь
сам проживу, спасибо вам за все. Пусть это ляжет грузом на вашу совесть.
перекосив rot, снова взвыла -- УУУУ-УУ-УУУ -- и Джо опять обнял ее за плечи,
похлопывая и приговаривая "ну-ну, ну-ну", как bezumni. Я встал и, весь
разбитый, еле дотащился до двери --- пусть сами, бллин, со своей zhutkoi
виной разбираются.
2
на который все оборачивались, ежился от холода (был zhutko холодный зимний
день), и все, чего я хотел, это уйти от всего этого как можно дальше и по
возможности не думать вообще ни о чем. Сел в автобус, доехал до центра,
потом пешком к Тэй-лор-плейс, а там смотрю -- магазин пластинок "Melodija",
который я так любил посещать когда-то в прошлом, бллин, причем он совершенно
не изменился, и, войдя, я даже ожидал увидеть там старого знакомого Энди --
ну, того лысого и diko тощего veka, у которого я всегда покупал диски. Но
Энди там теперь не было, бллин, одни визги и вопли nadtsatyh (тинэйджеров,
стало быть), которые, пританцовывая, слушали свой излюбленный эстрадный kal,
да и сам стоявший за прилавком продавец был вряд ли старше них; он все время
щелкал костяшками пальцев и хихикал, как bezumni. Я подошел, выждал, когда
он удостоит меня взглядом, и говорю:
именно это взбрело мне в голову, даже и не знаю, как-то само собой
получилось. Продавец говорит; -- Сороковой -- чего? Я говорю:
заросший волосами до самых глаз. -- Симфонией! Во дает! А семафории тебе не
надо?
поэтому изо всех сил улыбался -- и стоявшему за прилавком veku, и
приплясывающим шумливым nadtsatym. Продавец сказал:
пластинки, которые они вознамерились купить, и продавец поставил на
проигрыватель диск, но то была не Сороковая Моцарта, а моцартовская "Прага"
-- он, видимо, взял первую попавшуюся ему на полке пластинку Моцарта, отчего
я начал всерьез сердиться, но старался совладать с этим чувством из страха
перед тошнотой и болью, однако я совсем забыл то, чего забывать как раз не
следовало, и теперь мне от этого. было хоть в петлю. Дело в том, что эти
svolotshi доктора устроили так, что любая музыка, которая навевает всякие
там чувства, подымала теперь во мне такую же тошноту, что и всякий вид или
поползновение к насилию. А все потому, что в фильмах насилие сопровождалось
музыкой. Особенно запомнился мне тот uzhasni нацистский фильм с
заключительной частью бетховенской Пятой. И вот теперь прекрасный Моцарт
превращен в сущий ад. Я выскочил из магазина, за спиной, беснуясь, хохотали
nadtsatyje, а продавец кричал: "Эй! Эй! Эй! " Но я не обращал внимания, шел,
как пьяный, по улице и свернул за угол к молочному бару "Korova". Я знал,
что мне нужно.
какие-то красные коровы по всем стенам, а за прилавком vek тоже какой-то
незнакомый. Но когда я сказал; "Молоко-плюс, двойное", -- этот длиннолицый,
гладко выбритый субъект сразу понял, что требуется. Двойное молоко-плюс я
отнес в одну из маленьких кабинок, по всем стенам окаймлявших zavedenije и
отгороженных от основного зала вроде как занавесками, там я сел на бархатный
стул и принялся прихлебывать. Когда выпил стакан до дна, почувствовал:
действует. На не очень-то аккуратно подметенном полу лежал обрывок
серебряной бумажки от пачки с tsygarkami, и у меня glazzja к нему как
приклеились. Этот клочок серебра начал расти, расти, расти и стал таким
ярким, таким огненным, что пришлось даже сощурить glazzja. Он перерос собой
не только кабинку, где я прохлаждался, но и весь бар "Korova", всю улицу,
весь город. Потом он перерос целый мир, бллин, заменил собой всю вселенную,
стал морем, в котором плавало все, причем не только когда-либо сотворенное,
но и существующее в воображении. До моих ушей начали доноситься всякие звуки
и слова, которые я сам же и произносил, вроде: "Дорогие лебляблюбледи,
дохлопендрики вас промдырляются", и всякий прочий kal. Потом все это серебро
пошло как бы волнами, появились цвета, каких никто никогда не видывал, и
вроде как в отдалении показалась скульптурная группа, которая придвигалась
все ближе и ближе, вся в освещении вроде как ярчайших прожекторов снизу и
сверху, бллин. Скульптурная группа изображала Boga или Goga и всех его
ангелов и святых, они блестели, как бы отлитые из бронзы, с бородами,
большущими крыльями, которые трепыхались вроде как на ветру, так что вряд ли
они были из камня или бронзы, a glazzja у них были живыми и двигались.
Огромные фигуры близились, близились, вот-вот сейчас сомнут меня, раздавят,
и я услышал свой собственный голос: "Ииииииии! " И уже чувствую: нет у меня
больше ничего -- ни одежды, ни тела, ни головы, ни имени -- ничего; ух,
хорошо, прямо божественно! Тут шум поднялся, будто все рушится и валится, а
Бог, ангелы и святые принялись вроде как качать мне головами, словно говоря,





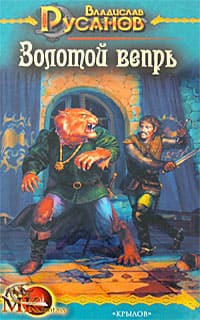
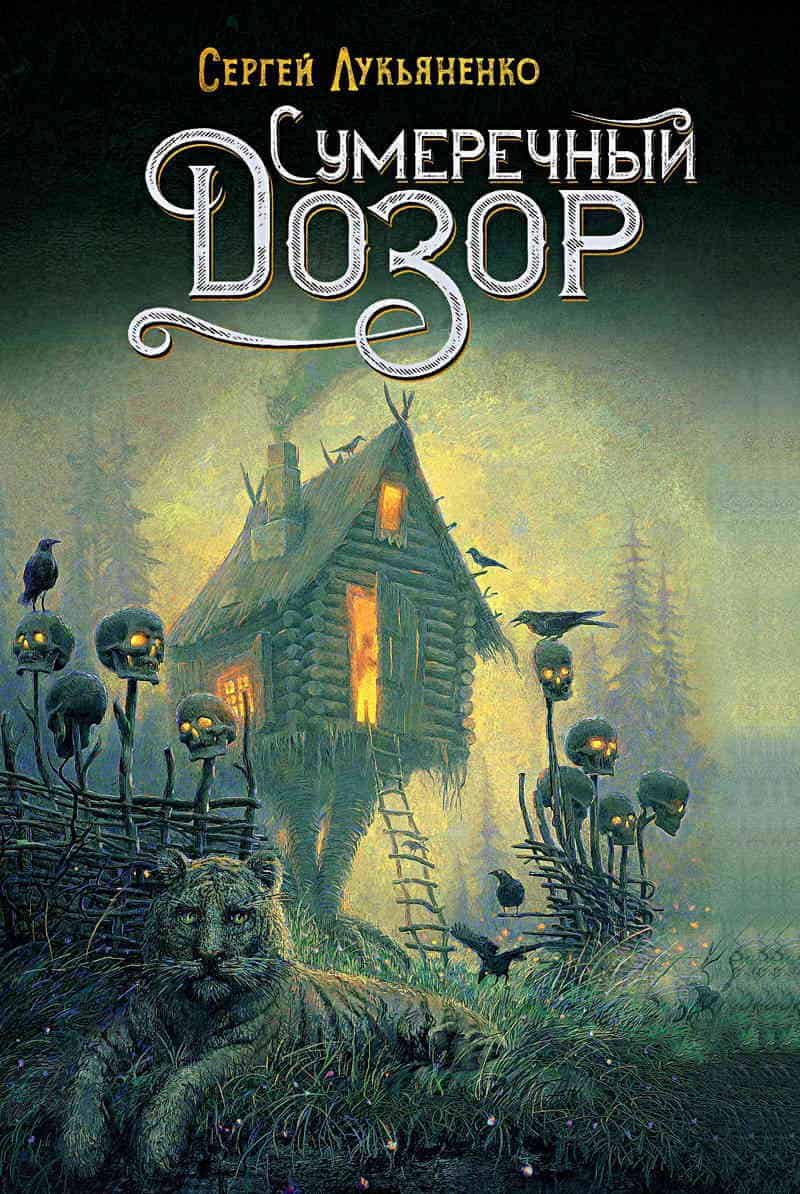 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей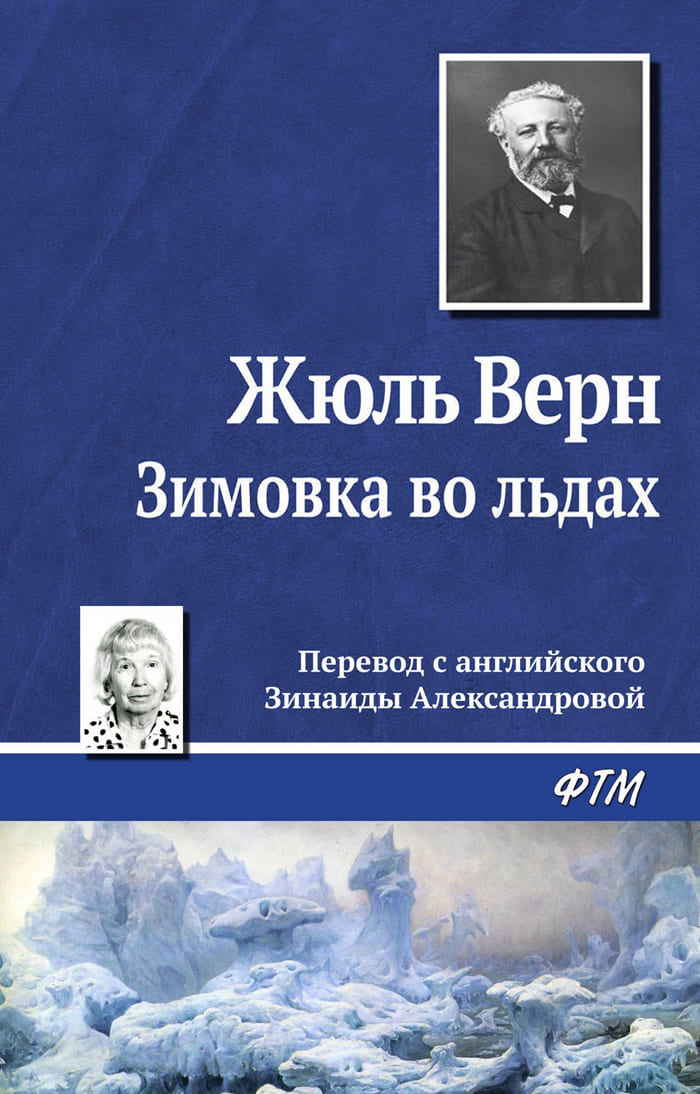 Жюль Верн
Жюль Верн Корнев Павел
Корнев Павел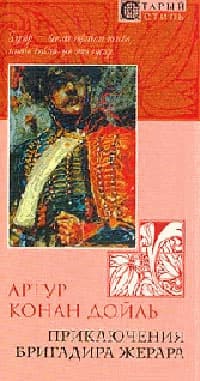 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Якубенко Николай
Якубенко Николай