ты мне показывал. Твой любящий дядя.
сейчас больше чем девяносто градусов [по Фаренгейту], хотя солнце уже час
как зашло. В кино показывают Мэрилин Монро, а в гавани стоит судно,
которое, как ни странно, называется "Хуан Бельмонте". (Помнишь ту зиму в
Мадриде, когда мы ходили на бой быков?) Главный механик судна - я думаю,
что это главный механик, - сидит за соседним столиком и пьет испанский
коньяк. Потом ему останется только пойти в кино. Сьенфуэгос, наверно,
самый тихий порт на свете. Одна-единственная розово-желтая улица,
несколько кабачков, высокая труба сахарного завода, а в конце заросшей
сорняком тропинки - "Хуан Бельмонте". Почему-то мне хотелось бы уплыть на
нем вместе с Милли, но разве это возможно! Пылесосы покупают плохо - в эти
беспокойные дни далеко не всегда есть электричество. Вчера вечером в
Матансасе три раза гас свет - в первый раз, когда я сидел в ванне. Какие
глупости я пишу тебе в такую даль.
хорошего. Иногда мне страшно подумать о возвращении домой - к магазинам
Бутса, Вулворта [магазины стандартных цен], к кафетериям, мне было бы
сейчас не по себе даже в "Белой Лошади" [марка виски, по имени которой в
Англии нередко называют кабачки]. Главный механик сидит с девушкой;
вероятно, у него есть девушка и в Матансасе; он льет ей коньяк прямо в
глотку, как ты даешь кошке лекарство. Какое здесь удивительное освещение
перед закатом: горизонт - полоса жидкого золота, а на свинцовой ряби моря
темные пятна распластавших крылья птиц. Высокий белый памятник на бульваре
- днем он похож на королеву Викторию - превратился сейчас в глыбу,
излучающую мистическое сияние. Чистильщики сапог запрятали свои щетки под
кресла, которые стоят между розовыми колоннами; когда чистишь ботинки,
сидишь высоко над тротуаром, словно на библиотечной стремянке, а ноги твои
покоятся на спинах двух бронзовых морских коньков, может быть, их завез
сюда какой-нибудь финикиец? Почему у меня такая тоска по родине? Наверно,
потому, что я отложил немножко денег и скоро должен решиться уехать отсюда
навсегда. Не знаю, сумеет ли Милли вынести секретарские курсы в
каком-нибудь унылом квартале северного Лондона.
Может, он уже умер? Я дожил до возраста, когда родственники умирают
незаметно".
- по приезде домой полезно будет послать на проверку несколько имен, чтобы
оправдать дорожные расходы.
вконец разладилось в его внутренностях; одна только Милли догадалась бы,
что именно. В ближайшем гараже ему заявили, что ремонт займет несколько
дней, и Уормолд решил отправиться в Сантьяго автобусом. Так было даже
быстрее и безопаснее: в провинции Орьенте, где повстанцы, как всегда,
хозяйничали в горах, а правительственные войска - в городах и на дорогах,
движение часто прерывалось, но автобусы задерживали реже, чем частные
машины.
городе соблюдался никем не объявленный комендантский час. Лавки на
площади, пристроенные к собору, были уже закрыты. Одна-единственная пара
торопливо пробиралась куда-то мимо гостиницы. Вечер был влажный и душный,
темная зелень ветвей тяжело свисала к земле в тусклом свете уличных
фонарей, горевших вполнакала. В гостинице его встретили недоверчиво,
словно были убеждены, что он чей-то шпион. Он почувствовал себя
самозванцем - ведь это была гостиница для настоящих шпионов, настоящих
провокаторов и настоящих повстанческих эмиссаров. В убогом баре монотонно
бормотал какой-то пьяный, - совсем в манере Гертруды Стайн [американская
писательница (1874-1946)]; он твердил: "Куба есть Куба, есть Куба, есть
Куба".
пятнах, с ободранными, как у старинной рукописи, краями и кислое вино. Во
время еды он написал открытку доктору Гассельбахеру. Когда бы он ни уезжал
из Гаваны, он неизменно посылал Милли и доктору Гассельбахеру, а иногда
даже и Лопесу дешевые открытки с изображением дешевых гостиниц, отмечая
крестиком окно своей комнаты, как в детективном романе отмечают место
преступления. "Сломалась машина. Все в порядке. Надеюсь вернуться в
четверг". Открытка с картинкой - верный признак одиночества.
о том, как пустынны после наступления темноты улицы Сантьяго. За железными
решетками запирались ставни, и, как в оккупированном городе, дома
поворачивались спиной к прохожим. Немножко светлее было возле кино, но
никто туда не ходил: по закону оно должно было оставаться открытым, однако
после захода солнца туда отваживался забрести только какой-нибудь солдат
или полицейский. В одном из переулков Уормолд наткнулся на военный
патруль.
выходила в патио [внутренний дворик (исп.)], где росла пальма и стояла
водопроводная колонка, но снаружи было так же жарко, как и в доме. Они
сидели друг против друга в качалках, раскачиваясь вперед и назад,
вперед-назад и поднимая небольшой ветерок.
электроприборов - вперед-назад, - к чему они? - вперед-назад. Тут, как
нарочно, погасло электричество, и они продолжали качаться в темноте.
Качнувшись не в такт, они слегка стукнулись головами.
прислушиваясь к тому, как кто-то, крадучись, ходит по двору.
всего было ничего не слышать, ну, а ничего не видеть было совсем просто
даже тогда, когда опять загорелся неверный свет и нити накала замерцали
бледным желтоватым сиянием.
что он делает так поздно на улице.
лицу. Уормолд был скорее удивлен, чем рассержен. Он принадлежал к людям,
уважающим закон: полиция была для него естественной защитницей;
схватившись рукой за щеку, он спросил:
ногах. Шляпа его скатилась в канаву, в самую грязь.
пинка, что он отлетел на другую сторону мостовой и чуть было не упал.
Затем его втолкнули в какую-то дверь, и он очутился у стола, за которым
спал полицейский, положив голову на руки. Он проснулся и заорал на
Уормолда; "свинья" было самым мягким из его выражений.
Лампарилья, 37. Возраст - сорок пять лет, разведен с женой. Я хочу
позвонить консулу...
приказал ему предъявить паспорт.
позабыл опустить, и маленькую бутылочку виски "Старый дед", купленную в
баре гостиницы. Сержант долго изучал бутылочку и открытку.
ладонь.
поставили крест на открытке?



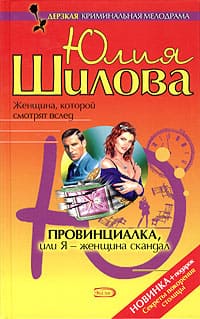


 Свержин Владимир
Свержин Владимир Корнев Павел
Корнев Павел Акунин Борис
Акунин Борис Свержин Владимир
Свержин Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия