Откуда-то из глубин рваных одежд он достал истертый газетный портрет
своего кумира, султана Мохаммеда. Радио пронзительно ревело бесконечными
воплями Радио Каира. Ирвин сказал Мохаммеду Майе что он еврей, и это
нисколько не смутило ни самого Мохаммеда, ни остальных в этом месте,
кайфовейшая туса чуваков и сорванцов, наверное он такой, этот новый
восточный "бит" - "Бит" в его первоначальном истинном смысле, в смысле
занимайся-своим-делом-и-все-тут - Видели же мы кучки арабских подростков в
джинсах оттягивающихся под рок-н-ролльные пластинки в чумовом отстойнике с
музыкальным ящиком и кучей игральных автоматов, точно как в Альбукерке
(штат Нью-Мексико), или в любом другом месте, и когда мы пошли в цирк
целая толпа их стала одобрительно галдеть и аплодировать Саймону, увидев
как он смеется над жонглером, они оборачивались, целыми дюжинами, "Хей!
Хей!", точно как где-нибудь на танцах в Бронксе (позднее Ирвин
путешествовал еще дальше и видел ту же картину во всех странах Европы, и
слышал что это происходит и в России, и в Корее). Говорят, единственные
кто еще может одним взглядом своим заставить шайку арабских тусарей
рассеяться, это старые и скорбные Святые Мужи мусульманского мира, которых
тут называют "Те, кто молятся" (Hombres Que Rison), ходящие по улицам в
белых одеждах и с длинными бородами. Полицию тут тоже ни во что не ставят,
мы видели уличные беспорядки в Зоко Гранде вспыхнувшие в результате спора
между испанской полицией и марокканскими солдатами. Бык был тогда с нами.
Вдруг ни с того ни с сего бурлящая от ярости желтая толпа полицейских,
солдат, стариков в длинных одеждах и джинсовой шпаны нахлынув заполнила
переулок от стены до стены, и мы все повернулись и побежали. Я потерял
остальных побежав вниз по какой-то улочке вместе с двумя арабскими
мальчишками лет десяти, смеявшимися вместе со мной на бегу. Я нырнул в
испанскую винную лавку как раз успев проскользнуть под опускаемой хозяином
железной скользящей дверью, дзяньк. Пока буйство катилось по улице и
вдаль, я заказал себе малагу. Позже я встретил всю тусу за кафешными
столиками. "Каждый день беспорядки", сказал гордо Бык.
Но с этим ближневосточным "брожением" не все было так просто как
утверждали наши паспорта, в которых власти (в 1957-м) запрещали к примеру
нам посещать Израиль, что взбесило Ирвина, и не зря, судя по тому факту
что арабам было совершенно наплевать еврей он или еще кто, до тех пока он
ведет себя как надо, а уж это он умел. Этим-то "международные тусовщики"
и отличаются, о чем я уже писал.
Одного лишь взгляда на чиновников американского Консульства, куда мы зашли
из-за гнусной бумажной рутины, хватило чтобы понять что же не так с
американской "дипломатией" повсюду в феллахском мире: - чопорные, лезущие
в чужие дела и твердолобые, презирающие даже собственных соотечественников
если те не носят галстуков, будто этот галстук и то что он собой выражает
что-нибудь значат для голодных берберов приезжающих в Танжер каждую
субботу утром, на смиренных осликах, как Христос, везя корзины жалких
фруктов или фиников, и возвращаясь в сумерках маячащими неясными силуэтами
вдоль холма и железнодорожных путей. Железнодорожных путей, где все еще
бродили босые пророки и учили встречных детишек Корану. Почему
американский консул никогда не заходил в тот пацанский зальчик, где сидел
и курил Мохаммед Майе? и не подсаживался к сидящим на корточках на
задворках пустых зданий старым арабам, разговаривавшим руками? почему он
не делал ничего такого? Вместо этого жизнь их заполнена частными
лимузинами, гостиничными ресторанами, приемами в пригородах, бесконечным
лицемерным отторжением во имя "демократии" всего того что суть сила и соль
каждой земли.
Мальчишки-нищие спали положив головы на столы, пока Мохаммед Майе
передавал трубку за трубкой крепкого кефа и гашиша, объясняя нам свой
город. Он показал за окно на мостовую под окнами "Море иногда доходило
сюда". Старая метка потопа, он все еще здесь, потоп, у дверей.
Цирк был фантастической североафриканской мешаниной феноменально шустрых
акробатов, таинственных глотателей огня из Индии, белых цыпочек
взбирающихся по серебряным лесенкам, безумных комедиантов которых мы
совсем не понимали, и велосипедистов которых Эд Сэлливан не видывал, а
зря, стоило бы. Это было как в "Марио и волшебнике"22, ночь терзаний и
аплодисментов, закончившаяся какими-то зловещими чародеями, которые никому
не пришлись по вкусу.
58
Мои деньги наконец-то пришли и пора уже было отправляться, но вот бедный
Ирвин кличет меня в полночь из садика "Спускайся вниз, Джее-кии, здесь у
Быка в комнате большая тусовка чуваков и девиц из Парижа". Это было точно
также как в Нью-Йорке, или Фриско, или в любом другом месте, они толкались
везде в марихуанном дыму, болтали, томные девы с длинными тощими ногами в
широких брюках, мужчины с бородками-эспаньолками, все это в конечном итоге
зануднейшая мура, в те времена (в 1957 году) еще даже не получившая
официального названия "разбитое поколение". Как только подумаю что я ведь
принял во всем этом самое живое участие, как раз в этот момент рукопись
"Дороги" набиралась в типографии для близящейся публикации, а меня уже
тошнило от всех этих дел. Нет ничего более тоскливого чем "крутость" (не
ирвиновская отстраненность, или Быка, или Саймона, которая есть лишь
отражение природного спокойствия) но крутость показная, а на самом деле
скрывающая твердолобость и неспособность человеческого характера
справляться с явлениями сильными и интересными, что-то типа такой
социологической крутизны, которая вскоре на какое-то время станет
последним писком моды для молодежных масс среднего класса. В ней есть даже
некоторый оттенок оскорбляющей враждебности, хотя может это не нарочно,
так например когда я сказал парижской девчонке, только что по ее словам
прибывшей с тигриной охоты вместе с персидским шахом, "Ты что, правда сама
тигра подстрелила?", как она одарила меня таким ледяным взглядом, будто я
только что попытался поцеловать ее у окон Школы Драматического Искусства.
Или уличить охотницу во лжи. Или еще что-то подобное. И мне оставалось
только сидеть на краю кровати в полном отчаянии как Лазарус, слушая их
чудовищные "типа" и "типа, втыкаешься" или "у, чума" и "ништяк, чувак" и
"оттяжно" - Все это вскорости распространится по всей Америке вплоть до
университетских кругов, и будет отчасти приписываться и на мой счет! Но
Ирвин не обращал на все это внимания, он просто хотел знать что у них на
уме.
На кровати лежал растянувшись, будто совсем коньки отбросив, Джо Портман,
сын известного писателя на темы путешествий, он сказал мне "Я слышал ты в
Европу собираешься. Хочешь поехали вместе на пароме? На этой неделе купим
билеты"
"Окей"
Все это время парижский джазист объяснял что Чарли Паркеру не хватало
собранности, и что джазу необходимо для придания ему глубины влияние
европейской классической музыки, что заставило меня спастись наверх,
насвистывая "Кашу со свининой", "Au Privave" и "Я оттянулся".
59
После долгой прогулки вдоль линии прибоя и вверх на берберские холмы,
откуда я увидел сам Могреб, я в конце концов собрал вещи и купил себе
билет. Могреб это арабское имя этой страны. Французы называют ее La
Marocaine. Мальчонка чистильщик обуви на берегу произнес это название,
яростно выплюнув его и сверля меня свирепым взглядом, попытался продать
мне похабные открытки и умчался потом гонять мяч на прибрежном песке.
Несколько его дружбанов постарше сказали мне что не могут раздобыть для
меня одну из юных девочек на пляже, потому что они ненавидят "христиан".
Но не хочу ли я мальчика? И мы с мальчиком чистильщиком наблюдали за
гомиком американцем злобно рвущим похабные открытки, разбрасывая кусочки
по ветру на бегу, убегающим с пляжа прочь и плачущим.
Бедный старый Хаббард был уже в кровати когда я собрался уезжать, и он
выглядел по-настоящему огорченным когда принялся трясти меня за руку и
сказал: "Береги себя, Джек", произнося мое имя чуть насмешливо и напевно,
пытаясь этим смягчить серьезность прощания. Ирвин с Саймоном махали мне с
пристани, пока паром отчаливал. Оба они нацепив очки потеряли в конце
концов из виду волны моего корабля, завернувшего и взявшего курс на иные
воды за Гибралтаром, во внезапно выпучившуюся прорву гладко стеклянной
округлости. "Бог ты мой, Атлант все еще стонет под всем этим".
Я редко видел Портмана за время пути. Мы оба пребывали в одинаково
плачевной мрачности, распростершись на застеленных мешковиной койках в
окружении французской армии. На соседней койке лежал молодой французский
солдат, за все эти дни и ночи не сказавший мне ни слова, он просто лежал
там уставясь на пружины верхней койки, ни разу не встав вместе со всеми в
очередь за фасолевой похлебкой, он не делал вообще ничего, даже не спал.
Он возвращался домой со службы на Касабланке, или может быть даже с
алжирской войны. Я вдруг подумал что он скорее всего на игле. Его не
интересовало вообще ничего кроме собственных мыслей, даже когда три
пассажира-мусульманина, которых занесло на верхние койки с нами,
французской армией, вдруг вскакивали посреди ночи и начинали невнятно
бормоча поглощать свои блудливые обеды из бумажных кульков: - Рамадан.
Нельзя есть до наступления скольких-то там часов. И я в очередной раз
подумал до чего ж все-таки стереотипно подается "мировая история" со
страниц журналов и газет. Вот три жалких тощих араба мешают спать ста
шестидесяти пяти французским солдатам, вооруженным к тому же, посреди
ночи, и все же ни один сержант или младший лейтенант не закричит им
"Tranquille!23" Они беспрекословно сносили все это неудобство и шум, куда
как уважительно по отношению к вере и личной неприкосновенности этих трех
арабов. Так чего ради тогда эта война?
Днем на наружной палубе солдаты пели, поедая фасоль из своих рационных
котелков. Мимо пронеслись Болеарские острова. Иногда казалось что солдаты
с нетерпением ожидают чего-то радостного и волнующего, дома, во Франции,


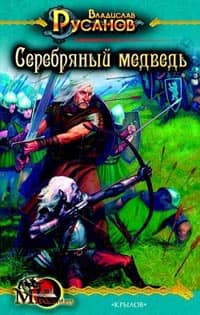
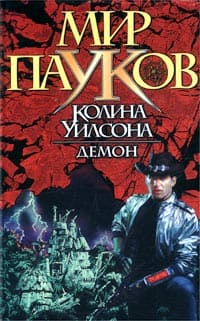
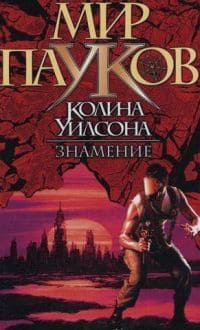
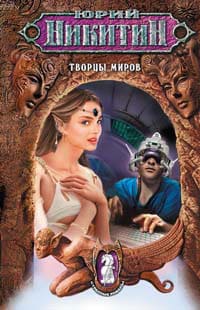
 Суворов Виктор
Суворов Виктор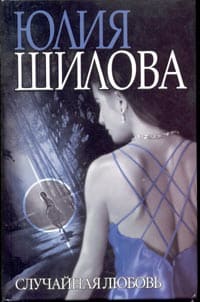 Шилова Юлия
Шилова Юлия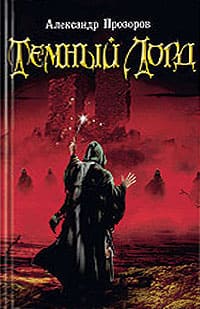 Прозоров Александр
Прозоров Александр Никитин Юрий
Никитин Юрий Ковальчук Вера
Ковальчук Вера Куликов Роман
Куликов Роман