- Ну, давайте, - сдался Форбс. Пусть хотя бы так, лишь бы скорей домой. Неуютно американскому генералу сидеть в русском концлагере, хоть и бутафорском, и дожидаться, что какой-то литератор-скульптор снизойдет до беседы.
Фейхоев переместился к телевизору и чем-то щелкнул. Экран замерцал всеми красками, потом на нем проступили контуры каменного человека. Впрочем, не совсем человека. Экран демонстрировал статую, автор которой обладал незаурядным дарованием. Персонаж, коего изображала статуя, был немолод, по-казацки усат, облачен в пиджак, а под пиджаком просматривалась расшитая узорами рубашка навыпуск. Но на этом собственно человеческое в нем исчерпывалось. Из-под верхней губы торчали огромные, свисающие ниже усов и подбородка вампирские клыки; густую шевелюру прокалывали кончики завивающихся рожек, да и все лицо искажала гримаса дикой злобы и жадности. С одного из клыков свисала капелька каменной слюны - или яда? Брюки заканчивались не ботинками, а широченными копытами наподобие ячьих, сами же копыта словно бы тонули в болоте - хотя были всего лишь немного утоплены в низкий постамент. Все тело каменного человека было изогнуто: одна рука, выброшенная далеко вперед и в сторону, вцепилась когтистыми пальцами в книгу, другая, заложенная под фалду пиджака, похоже, почесывала поясницу. Правдоподобие искусства доводило эффект до жути: отчего-то зрителю сразу было ясно, что не кладет каменный вампир каменную книгу в отдельно изваянную в сторонке торбу - а именно тащит книгу из нее. Под торбой просматривалось стремя, до которого тщетно пытался дотянуть упырь свое правое копыто. И в завершение всего за спиной чудовища возвышался столб, к которому оно было приковано каменной цепью, защелкнутой на талии поверх пиджака. Форбса передернуло.
"С таким талантом - еще и книги писать?" - подумал он. На Западе никто скульптурным экзерсисам лауреата не придавал внимания. То ли претил натуралистический стиль, то ли вообще казалось всем ваяние Пушечникова чем-то вроде пресловутой "скрипки Эйнштейна". Да и не продавал писатель своих скульптур никогда и никому.
На огромном экране пока что живых персонажей не было, и со скуки генерал стал рассматривать неживые, выстроившиеся в довольно правильный круг возле вампира. Ближе всех возвышалась серая глыба, раздваивавшаяся футах в пяти от земли, образовывавшая какое-то подобие кентавра, с той разницей, что лицо изображенного и весь торс были обращены в сторону крупа, а сам круп представлял из себя письменный стол простейшей конструкции, почти пустой. Впрочем, на нем виднелась стопка каких-то одинаковых бумаг, одну такую бумагу кентавр держал перед собой, прижав краешком зажатого в левой руке стакана, и, видимо, собирался поставить на ней подпись дулом длинноствольного револьвера, кажется, маузера - из-за дальности Форбс не мог точно разглядеть систему оружия, - сжимал его кентавр все равно как авторучку. Лицо кентавра, светлое, нетрезвое, с зачесанными назад волосами, генералу было абсолютно незнакомо, и он перевел взгляд на следующую статую.
Тут было что-то совсем несусветное. От огромного каменного пня прямо в сторону изваяния вампира тянулся длинный сук, сильно прогибавшийся под тяжестью пристроившегося на нем персонажа. У этого очередного чудовища было тело какой-то огромной, но невзрачной птицы, - так, наверное, выглядел бы увеличенный в миллион раз воробей, - а может быть, и соловей. Голова у чудища была человеческая, с явными кавказскими чертами лица, усиками и стрижкой ежиком. В одной лапе человекоптица держала далеко отставленную пенковую трубку, так что Форбс даже подумал на секунду - не Сталин ли? Нет, сходства в грустном лице не обнаруживалось ни малейшего. Зато под статуей, на широчайшем пьедестале, виднелась надпись, как-то остервенело-глубоко врезанная в него, и надпись эта отчего-то была сделана на культурном английском языке:
WAIT FOR ME.
Кто тут кого должен был ждать - скульптор птичку, или наоборот? Второе казалось вероятней, и была в этом загадочная сила изобразительного дарования Пушечникова.
Форбс попробовал обозреть следующую статую, но обнаружил, что вместо нее на соответствующем месте высится необработанная каменная глыба, да и за ней стоит такая же. Похоже, лауреат далеко еще не все свои художественные замыслы воплотил в камень, не всех своих врагов разместил на кругах литературного ада. Впрочем, за двумя неотесанными камнями, уже несколько расплывчато из-за расстояния, виднелось еще одно изваяние. Насколько мог различить генерал, там немолодой, обрюзгший человек в пенсне сидел верхом на исполинской бабочке с развернутыми крыльями, сидел не совсем верхом, потому что бабочка была изображена повергнутой навзничь, лишь брюшко ее высоко выгибалось под каменным стариком. Тут Форбс ничего понять не мог, даже догадок строить не стал. Но в это время ракурс изображения на экране изменился.
В поле зрения камеры теперь находился живой человек в крылатке, с седой шевелюрой, изрядно напоминавший Маркса с обритой бородой. В руках у человека было несколько зубил и молоток - похоже, с помощью подобных резцов был изваян весь каменный пандемониум. Человек стоял перед каким-то каменным стариком и явно примеривался - глаз ли выбить идолу, ухо ли отхватить. Сходство каменного старика с самим скульптором наводило на дикую мысль: не собирается ли художник изувечить автопортрет. Руки изваяния были заложены за пояс и словно связаны: казалось, автор заранее опасался мести со стороны статуи.
- Федор Михайлович... - пролепетал Фейхоев, но тут же перешел на обычный визг. - Вот! Великий учитель сейчас рубит все, чему прежде поклонялся, конечно, поклоняясь тому, что рубит! Ведь всю свою жизнь учитель проверял и проверяет по единственному барометру честных людей - по Федору Михайловичу. Что бы сказал нам сейчас Федор Михайлович, обратись мы к нему с любым вопросом? Одно можно сказать с уверенностью - мы не можем знать, что ответил бы нам Федор Михайлович, не можем. Но что, собственно, мы вообще хотим узнать? Известно ли нам это?
- Нам это известно, - ответил генерал, у которого от фейхоевского визга уже изрядно болела голова. - Мы хотели бы узнать, кого господин Пушечников, всеми уважаемый писатель, историк и... скульптор, кого он благоволит считать истинным наследником российского престола?
Пушечников на экране ожесточенно мусолил резцы, размышляя, как бы побольней уязвить статую, - но при этом, видимо, слушая и разговор в бараке. Фейхоев тем временем возгласил:
- А вот на этот вопрос, конечно же, есть ответ, и он совершенно ясен. Законным царем в России может быть единственно только такой человек, который будет всеми единогласно признан как наследник русского престола. Такой человек, в природном наследном праве которого на то, чтобы возглавить Российскую Империю, не было бы ни малейших сомнений! Такой человек, в жилах которого текла бы неразбавленная, чистая и освидетельствованная кровь... Фейхоев запнулся. Пушечников косил одним глазом в камеру, но взгляд его был недобр.
- Чья кровь? - спросил генерал, переждав паузу.
- Законных русских императоров! Такой человек, который вернул бы попранные коммунистическими тонтон-макутами свободы... Впрочем, и так понятно. Согласны ли вы, господин Форбс, с этой точкой зрения господина Пушечникова, уже не единожды, впрочем, изложенной им на страницах его романов? Вот я лично не сомневаюсь, что и Федор Михайлович, обратись мы к нему с этим вопросом...
Фейхоева несло по стремнине красноречия в какую-то невнятицу, Пушечников на экране перебирал резцы и все косил недобрым глазом. Больше не происходило ничего, но генерал помнил, что для истинного сына древнего Китая всегда было великой добродетелью - хранить терпение.
- Я просил бы вас, мистер Фейхоев, если вы действительно излагаете мнение господина Пушечникова, выразиться ясней и короче. Поскольку он заявил миру о своей приверженности к монархическому устройству государства, поскольку к его голосу прислушивается весь мир... - Форбс подавил желание прибавить "и даже вы", чуть запнулся и продолжил: - то я, как человек, в силу служебного долга заинтересованный в реставрации законной власти дома... российских императоров, хотел бы узнать: кого конкретно считать законным наследником престола. Хотя бы - имеют ли право на этот престол именно Романовы.
Фейхоев не то пожевал губами, не то пощелкал клювом. Он явно запутался, а Пушечников на экране только шевелил резцами. Генерал медленно переводил взор с "опущенного" на лауреата, с лауреата на золу в камине и снова на "опущенного". Ни генералу, ни болгарскому шпиону, ни японскому медиуму терпения было не занимать, хотя времени они истратили и так уж слишком много. Фейхоев все же заговорил, даже как-то тембр голоса у него переменился.
- Так вот. По-русски - нуте-с. История беспощадна, она неподкупна и неумолима. Никому не дано остановить ее поступательное, тактильное, так сказать, и моторное движение, даже, не боюсь этого слова, ее фрикционное начало! Желаете ли вы, как всякие разумные люди, признать российскую монархическую основу? Бог в помощь! Разве этого самого по себе недостаточно? Строй православный, строй монархический представляется единственно мыслимым для обустройства грядущего нашей многострадальной отчизны! Родина! Россия! Сколько пето о ней песен! Сколько сложено сказок! Какие были слагались в веках, когда мрачный топор азиатского ига...
Не выдержал человек, от которого этого можно было ожидать всего меньше: не выдержал медиум. Он тихо встал и прошел к монументальному чайнику; генерал слышал его телепатически и потому не обернулся. Перебивая Фейхоева, медиум сказал - глаза его, понятно, оставались закрыты:
- Федор Михайлович и другой дух, не называющий имени, русский дворянин очень древнего рода, имеют нечто сообщить вам, господин лауреат, и вам, господин генерал.
На экране Пушечников, кажется, услышавший последние слова, как-то ожил и уставился прямо в камеру, отчего его сходство с бритым Марксом уменьшилось, но взгляд остался знакомым: так обычно смотрел оборотень Кремона, когда превращался в серого волка.
- Вы предсказатель? - выдавил из себя Фейхоев. - Господин Пушечников очень вами интересовался, даже говорил Арнольду, чтобы тот вас к нам прислал...
- Мистер Ямагути - могущественный медиум нашего времени, - веско ответил Форбс, - и он оказывает нам величайшее внимание, связывая вас, а также и нас, с душами умерших. Ни я, ни президент ничего не можем ему приказать.
- Но ведь господин лауреат столько раз заявлял публично, что всякий великий русский писатель советуется с ним ежечасно, ежеминутно, строит жизнь по нему, душу им очищает... А второй дворянин кто? Говорят-то чего? - голос Фейхоева, истончаясь, грозил уйти в область ультразвука.
- Имя не названо... - медиум с видимым усилием прислушивался к чему-то в себе, - приношу извинения. Я не слишком хорошо знаю английский язык. Дух Федора Михайловича говорит по-русски. Его слова переводит другой дух. Он весьма хорошо знает русский язык. Вы должны меня извинить. Японский язык не имеет ругательств. Русский язык чрезвычайно богат бранными словами. Вы должны меня извинить. Еще несколько мгновений.
И Фейхоев, и Пушечников всем своим видом выражали недоверие к тому, что язык, не имеющий ругательств, вообще может существовать.
- Собственно говоря, - с трудом заговорил Ямагути, - общий смысл речи духа Федора Михайловича сводится к следующему. Он настоятельно советует господину лауреату Пушечникову, а также мистеру генералу Форбсу и всем другим присутствующим лицам... я вынужден повторить буквальный перевод, я ничего не понимаю - не совершать вывернутый половой акт? Или же не совершать половой акт в обратную сторону? Или же не совершать половой акт наизнанку? Не понимаю. Кроме того, своим наследником дух Федора Михайловича недвусмысленно называет своего сына Павла и заявляет, что все права на российское престоло
наследие передает именно ему.
- То есть какого Павла? - вдруг выпалил Пушечников прямо с экрана. Форбс приблизил к нему лицо и дал обстоятельные разъяснения, хотя мнение Пушечникова уже потеряло для него актуальность. Визит сюда, видимо, был все же нужен: быть может, лишь поблизости от адских кругов, заполненных пушечниковскими статуями, медиум мог вступить в беседу именно с теми покойниками, общения с которыми жаждал генерал.
- Федор Михайлович Романов, - сказал Форбс, - сообщил нам сейчас через посредство почтенного медиума Ямагути, что своим наследником, а следовательно, и наследником русского престола по линии старших Романовых, он считает своего сына, Павла Федоровича Романова.
Генерал так близко наклонился к экрану, что писатель отпрянул и спиной ударился о статую.
- Уф, - сказал он, - да что это вы, генерал, в камеру так и лезете... прежде времени?
На игру словами генералу было глубоко плевать. Он понял, отчего писатель скрылся за телеэкран: президент явно не утаил от лауреата, что Форбс какой-никакой, а телепат все же. "Ну, приложись у меня к спиртному!.." злорадно подумал он.
- Приношу извинения, - сказал генерал, отодвигаясь от экрана. Пушечников взял себя в руки и заговорил бархатным баритоном.
- Романовы! Трехсотлетний дом... Им ли не жаждать реставрации? У них есть это право. Но ведь княжили и володели Русью и другие славные роды. Кстати, более древние, нежели Романовы. Так что вряд ли отречение одного Романова в пользу другого - такое уж важное событие, все это было, было, было. Что, впрочем, не может и отменить идею монархии как единственно возможного для России пути!
Его прервал медиум:
- Федор Михайлович недвусмысленно заявил, что его законным наследником является его сын Павел. - Японец чуть кивнул и сел в кресло, явно считая беседу исчерпанной.
- Стонущая в ярме коммунистической деспотии страна не может не приветствовать своего самодержца, - продолжал писатель, - а кто им будет вправе решать один только русский народ, только он и больше никто!
- То есть, - подхватил генерал, - если бы, предположим, все-таки Павел Романов занял русский престол под именем Павла Второго, то вы бы его признали? Приветствовали бы?
- Что в имени? Сколько хороших русских имен есть, не на одну тысячу лет нашим императорам хватит. Император - это идея, а не имя! Идея русской государственности - не пустое перемешивание имен! А имя... - писатель замешкался и вдруг обратился прямо к медиуму, притом голос его заметно дрогнул: - Скажите, а что хотел сказать Федор Михайлович именно мне? Я ведь всегда считал себя его наследником...
- Федор Михайлович, - безучастно ответил японец, не поднимаясь из кресла, - сказал, что наследником считает только своего сына Павла Федоровича.
- Ах, да, - запнувшись, произнес писатель, - у вас другой Федор Михайлович...
- И у него другой наследник. - Форбс как бы ставил точку в разговоре. Он посмотрел в окно: небо посветлело, Тутуила уже приготовил для них летную погоду. Пора было домой, в Скалистые горы. Генерал отступил от экрана.
- Приношу глубокую благодарность, господин Пушечников,- сказал он, - за гостеприимство и содержательную беседу. Если из-за нашего визита пострадало ваше финансовое положение, убытки будут компенсированы вам из федеральных средств.
- Скажите, - ответил лауреат странным голосом, бархат его баритона весь как-то облез и превратился в дерюгу, - а что, вы всерьез надеетесь, что у нас будет снова монархия? И я смогу вернуться?..
Генерал, наконец-то услышавший хоть одно отречение от престола - пусть отречение покойника, но ведь отречение! - чувствовал, что большой беды от разглашения тайн уже неизбежного будущего не приключится. Древний китаец в его душе на миг исчез, а сама душа была как-никак душой американского генерала, которого уж больно нелюбезно принял какой-то русский мастер пера и зубила.
- Вероятно, да, - ядовитым голосом выговорил генерал, - его величество император всея Руси Павел Второй, полагаю, дозволит вам въезд на историческую родину. Засим еще раз благодарю вас за беседу. Разрешите откланяться.
...И опять было возле взлетной полосы отвратительное зенитное орудие нацелено прямо на самолетик Форбса. И опять летели из динамиков заунывные русские ругательства пополам с собачьим лаем. Опять завелся двигатель, и почти вертикально в небо, совсем уже по-мартовски синее, унесся Форбс на восток со всей свитой. А минут через пять на взлетную полосу вышел, мягко ступая, великий русский писатель, остановился посреди бетонного островка и уставился вслед самолету, уже невидимому, - на восток. В руках у него были все те же инструменты, с которыми примеривался он к статуе своего бога Федора Михайловича. Взгляд его был и пронзителен, и печален, как взгляд древнего иудейского пророка, которому дано лишь взглянуть с горы Нево на землю обетованную, но не дано в нее войти. Подобное сравнение сам Пушечников наверняка бы отмел как мерзкое и дерзкое, он себя ни с каким евреем, даже древним, не сравнил бы. Он долго смотрел вслед самолету, а потом рука его дрогнула, сжала в троеперстии одно из зубил и поднялась. Медленно-медленно писатель нарисовал в воздухе благословляющий крест, чуть склонил голову и быстро, словно стыдясь самого себя, ушел с аэродрома.
Синева мартовского неба оказалась обманчивой. Над Айдахо самолет Форбса увяз в неведомо откуда взявшейся туче, из которой пилот, сколько ни старался, выйти так и не смог, покуда Форбс не догадался, что туча эта противоестественна и вообще невозможна метеорологически, поскольку самоанский волшебник гарантировал хорошую погоду. С большим трудом пилот посадил самолет на Элберт, и лишь тогда туча, вся-то футов сто в диаметре, отплыла в сторону и растворилась в горном воздухе. Ревнивый Бустаманте намекал Форбсу, что использование услуг новозавербованных магов не столь уж необходимо в тех случаях, когда свободен от срочной работы он сам.
Прямо с аэродрома Форбс узнал от дежурившего здесь битых полдня Нарроуэя пренеприятную новость: в шестом часу по местному времени выполнявший трудовую повинность арестованный Умералиев, копая свой колодец, наткнулся на водопроводную коммуникацию, прорубил ее киркой, и оттуда фонтаном ударила вода, даже господин раввин Цукерман, несмотря на все свои уникальные способности к размыканию времени, промок до нитки. И покуда ругающийся на всех языках чудотворец переодевался в сухое, киргизский мальчик тем временем предательски наплевал на все магнитно-силовые поля Соединенных Штатов, вывернул наизнанку свои черные трусы, превратился в водяной пар, растворился в воде, утек в трубу и был таков. И попробуй теперь сделать Цукерману выговор за упуск поднадзорного, когда раввин и без того промок. В душу несколько опечаленного Форбса закралось подозрение: не Бустаманте ли подсунул мальчику эту самую водопроводную коммуникацию, чтобы еще больней уязвить за связи с самоанскими шарлатанами. И впрямь - что стоило обратиться за хорошей погодой к самому итальянцу? Да какая разница теперь-то. Форбс ныне имел право ввести в действие все самые неприкосновенно-резервные мощности плана реставрации Дома Старших Романовых, даже "Гамельнскую Дудочку", в непобедимости которой не сомневался никто, пусть даже ван Леннеп и отмахивался от нее неизменным "О да, ее никто не победит", что звучало как-то неуважительно, если вспомнить, сколько денег было в эту дудочку пущено. Так что большой ли потерей был советский газообразный оборотень? Хватит. Пора реставрировать.
Бредя от лифта к своему кабинету, перебирая в уме сотни дел, за которые теперь предстояло взяться, увидел Форбс дальнозоркими глазами невероятное зрелище. Там, в конце коридора, размахивая руками и что-то воинственно-радостное выкрикивая, висел в воздухе господин раввин, могущественнейший тавматург Мозес Цукерман. Напоминал он человека, в первый раз едущего на велосипеде, наконец-то научившегося при этом держать равновесие и оттого ликующего. Он перебирал в воздухе ногами, хватался за него пальцами, а волосы вокруг сверкающей лысины, серовато-седые волосы шевелились, как змеи Горгоны. Тавматург нимало не был раздосадован утратой поднадзорного, он был опьянен только что обретенным умением летать, - пусть еще не очень хорошо, пусть полет его и впрямь походил на вихляние начинающего велосипедиста, но ведь велосипеда-то под ним не было, это он сам, своими силами ехал-летел на высоте двух футов, вращая невидимые педали и выкрикивая что-то победное.
Обуянный ликованием, вовсе не замечая генерала, чудотворец пролетел мимо. Форбс тоже не удостоил его никаким особенным вниманием, даже не подумал ничего, через секунду вовсе о нем забыл. Настал самый важный час в жизни Форбса. Он приступил прямо к реставрации Дома Старших Романовых. Чем-то дело обернется?
А кто его знает.
=20=
Собакою быть - дело не худое.
Г.СКОВОРОДА. БАСНЯ 1
Настроение у сношаря было совсем плохое еще позавчера. Евдокия-плющиха, Евдокия-свистуха, Евдокия-подмочи-пирог пожаловала все грядущее лето препоганейшим прогнозом погоды; сыро было, противно, шел мокрый снег и дул северный ветер, все крыльцо заснежил; бабы-то, небось, ночью разбредаясь, промерзли, как цуцики, хотя простудиться не должны бы: чай, не городские, чай, закаленные. Вообще-то о городских, пусть не о бабах, так о мужиках, стал за последнее время сношарь мнения вроде бы немного получшего: все же в среднем худо-бедно, а четыре-пять сотен яиц они ему вот уж четыре месяца как нарабатывали каждую неделю, так что, можно считать, не бесплатные получились постояльцы, не дармоеды, все же работают за кров свой и за стол, а четыре сотни яиц в банно-воскресном деле - число немалое. Да к тому же непривередливые, тихие, знай, сидят в клети, без надобности носа наружу не кажут, правилам хозяйским не перечат, бабы тоже не жалются, довольны, значит, а это главное. Но вот погода, погода, ни дна ей, ни покрышки, ведь отколь на Евдокию ветер, оттоль и на все лето! Ведь коль холод на Евдокию - скот кормить лишние две недели, это ж сколько забот лишних у баб, о своем удовольствии опять времени не найдут подумать, а это дело разве? Чем бы их таким порадовать, чтоб не очень печаловались-то? Объявить разве на праздник, это двадцать второго который, сороки святые когда, по сорок жаворонков когда печь полагается, колобаны, стало быть, золотые, древний праздник, весенний, уважаемый, - объявить разве им, бабам, праздника ради - половинную таксу? Оно бы и славно, так ведь полсела тогда к вечеру припрется, а всем за ночь нешто услужишь, даже и с подмастерьями? Подмастерья, впрочем, ничего себе, но ежели за свою работу такса половинная будет, то за их работу сколько тогда брать? Четверть яйца, что ли? Ну нет, нечего инфляцию разводить. Довольно будет в работу праздника ради души побольше вложить. Да только как гостей-то обучить? Не научишь ее, душу эту самую, в работу вкладывать, талант на то нужен врожденный, а его кабы все имели, так разве такая бы жизнь нынче на земле была? Совсем бы, совсем другая жизнь тогда на земле была бы, совсем. Да тут вот еще погода.
Потом, за сороками святыми, другой большой праздник деревенский уж и вовсе на носу будет: Никита Вешний. Никто не помнил, отчего этот праздник стал в деревне таким почитаемым, тогда как про осеннего Никиту, Гусепролетного, скажем, и вспоминал-то мало кто. А сношарь о причине никому не докладывал, так, внушил бабам втихую, что важный это для них праздник, наиважнейший; причина же была в том, что в этот день праздновал сношарь тишком свои настоящие именины, - хоть и жил он для баб как Лука, а природный был все-таки Никита. А потом уж и Пасха скоро. Яиц-то, яиц-то!..
Допровожав под утро на евдокийную холодрыгу пятерых удовольствованных клиенток, еще удостоверившись, что гости дорогие спят в клети без задних ног и своих, кажись, четверых, давно уже по хатам разогнали к мужьям подале, обнаружил сношарь, что спать совершенно не хочется. Вообще-то бессонницами великий князь не страдал, но ежели впадал в тристесс по случаю плохой погоды, то иную ночь мог по собственному желанию провести и без сна. В такую ночь обычно шел сношарь гулять. И хотя дул омерзительный ветер, хотя из-за Смородины, затянутой грязным льдом, доносился вой чем-то не очень довольных волков, хотя и вообще-то небольшая радость гулять в потемках, ни свет ни заря, не развиднелось еще ничуть, да и снег и ветер к тому же, - сношарь все-таки выпил маленькую чашку черного пива из корчаги - даже и пить не хотелось, так обижала его погода, - накинул тулуп и пошел по девичьей тропке к реке.
Кряжистый и большой, топал сношарь по тающей, оттого совсем плохо утоптанной, почти забытой в такое время года тропинке, и оставались за ним следы совсем уже ветхих его мокроступов, все никак Витьке-чеботарю приказать справить новые не вспоминалось, а ведь баба евонная чуть не по два раза на неделю захаживает с яйцами, не скупится. Нынешние пока еще не текли, но осенью их уж больше не наденешь, Соколе их отдать надо будет. Видно сейчас кругом было только чуть-чуть, однако сношарю это было без разницы - столько лет провел он в темной горнице, даже лучины не зажигая, что разглядывать-то такого нового ему было, чего он допрежь не видал? Так что видел сношарь в темноте, как сова, и даже лучше. Дорогою глядел он только под ноги, чтоб ненароком не сковырнуться об какую-нибудь подснежную хреновину либо корягу, - но был под ногами только грязный, протаявший мартовский снег, наводящий уныние на любого человека, кроме тех самых махровых оптимистов, которым покажи подосиновик, так им сразу родное знамя видится. Человечьих следов на тропке вовсе не попадалось, но вся она, ну буквально вся, была растоптана собачьими и волчьими лапами. Где-то тут, похоже, как раз и творились с конца прошлого года те бесконечные свадьбы, подвывание, рыканье и хрюнчанье коих доносились до сношаря ночами, нимало не озлобляя его не по-старчески острого слуха, ибо всем тварям божиим свое удовольствие иметь надо, и слава Богу, коли есть от кого это удовольствие возыметь. Видел сношарь мельком, раз или два, чужого, неизвестно зачем забредшего в нижнеблагодатские края огромного рыжего пса, который, похоже, и был виновником всех этих свадеб. Заметив, что пес довольно-таки стар, сношарь одобрил его окончательно и передал через баб деревне, чтоб не смели всю эту псарню-волчатню не только что стрелять, но и вообще тревожить, потому как старый пес борозды не портит, а курей все равно сторожить собаками надо, так пусть будут псы получше, этот старик приблудный новыми кровями им породу укрепляет. Интуитивно попадал сношарь в этом случае в самую десятку, не догадываясь пока что лишь о причине, по которой появился здесь рыжий великан. Сношарскую породу ценил Пантелеич во всяком образе, кроме разве что летнего комарья, хотя, пожалуй, встреть он однажды некоего комара-сношаря, такого, чтоб сомнений не было в сношарском его естестве, даже и к комару этому отнесся бы он с уважением, не только не прихлопнул бы его морщинистой лапой, а просто с миром и почтением отпустил: лети, множься.
Сношарь без определенной цели дотопал до реки, поглядел с минуту на изъеденный чернотой, готовый со дня на день тронуться лед, потом побрел далее, вдоль берега в сторону Верблюд-горы, собираясь для моциона подняться на ее ближайший горб, вдохнуть верхнего воздуху пяток разов, а потом назад пойти, авось сон нагуляется. Был это чистый самообман, в таком дурном расположении духа никоторый сон, ясное дело, сношарю нагуляться не мог, должно бы тут событию какому ни на есть случиться, непременно с положительным оттенком, даже лучше с примесью чуда - вот только тогда бы сон, глядишь, и навеялся. Да где ему, событию, событься-то в глуши старогрешенской. В такие минуты мысли сношаря раздваивались, вел про себя старик нечто вроде диалога, персонажами которого были "Пантелеич" с одной стороны и "Лексеич" с другой, ясней говоря, Лука Пантелеевич Радищев, сношарь села Нижнеблагодатского и прилежащих, и Никита Алексеевич Романов, великий князь и возможный наследник престола Всея Руси, каковые оба в сумме и составляли гармонически двойственную натуру старика. Диалог этот, как правило, состоял из подтрунивания Лексеича над Пантелеичем и наоборот, но бывало, в особо трудные и важные минуты, Лексеич с Пантелеичем советовался: например, когда американцы с очередными пропозициями лезли. Но бывало, что и Пантелеич у Лексеича просто даже помощи просил, когда, скажем, заваливалось на двор к сношарю сразу два десятка не желающих отлагательства баб; ну, и с Божьей помощью вдвоем управлялись как-то, случая не было, чтобы не смочь смогли.
По щиколотку утопая в киснущем снегу, сношарь поднимался к ближней вершине Верблюд-горы.
"Ну и вот, Пантелеич, - говорил в нем один внутренний голос, - вот и способностей твоих всех не хватит, чтобы люди, бабы то есть, довольны стали, когда ненастье на весь год и недород снова. Что надумаешь-то, хрен страрый?"
"По-перво, не старее тебя, дубина дворянская, - отвечал оппонент, - а по-друго, и тебе, княже, стихии не подвластны. Либо же подвластны, тогда почто от престола почитай что отрекся? Был бы ты царем, да приказал бы: на Евдокию, мол, ведро во всю небесулю, да радуга без дождя для увеселения почтенной публики. Слабо, княже? То-то же. Кидай претензиев своих к той бабуле, да давай помогай дело делать, уж сколько-нисколько радости-то людям я добывать в силах, а ты помогай, помогай, не брезговай, чай, все наши предки дворянские не брезговали, аль ты иначе думаешь?"
"Да помогу, помогу, Пантелеич, не лезь ты в бутылку поперед деда Федора. Нешто с работы-то одним только бабам радость? Нешто сам ее оттуда не потребляешь, или я не оттуда ж пользуюсь? Так что не гордись, не гордись, Пантелеич, что счастье, мол, умножаешь людское, чай, ведь и себя не обижаешь?"
Пантелеич на Лексеича обиделся и замолчал на какое-то время. Лексеич, похоже, понял, что перегнул палку, и заговорил снова.
"Не дуйся ты, не дуйся. Ну, чего киснешь-то, старче? Подумаешь, не в силах ты погоду исправить. Так ведь и времени ты назад не поворотишь! Ну, сам-то посуди, семьдесят девятый тебе пошел. Ну, будешь ты в силе еще десять лет, ну, двадцать..."
"А не тридцать отчего?" - вспетушился Пантелеич.
"Ну тридцать там, даже сорок пусть, - а далее кому дело-то оставишь? Со своего семени работника негоже будет ставить, породу попортишь, многократный инбридинг называется это по-научному..."
"Не по-научному, княже! Не по-научному! - взвился Пантелеич. - По-научному называться это будет многократный инцест!"
"Да хоть салат оливье, смысл один и тот же. Где сменщика-то возьмешь, голова твоя капустная?"
"А вон... этот у меня, который длинный", - буркнул Пантелеич, оступаясь на коряге.
"Длинный, короткий - люди пришлые, не привяжешь ты их к деревне. Да и силы твоей в них нет, чужие они..."
"И вовсе не чужие. Который короткий, Паша, тот мне племянник внучатый".






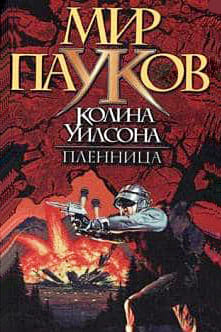 Прозоров Александр
Прозоров Александр Куликов Роман
Куликов Роман Флинт Эрик
Флинт Эрик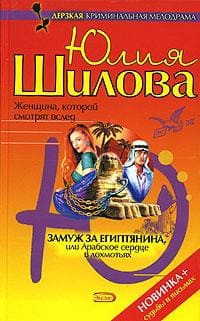 Шилова Юлия
Шилова Юлия Ларссон Стиг
Ларссон Стиг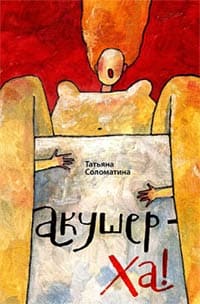 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна