прочь от саней. "Вернись, дура!" Возвращается: "Федя, только не надо про
волков!" - "Ладно, не буду, раз ты такая глупая". Бодрюсь, но и мне
страшно. Увидят, поймают, посадят в тюрьму. А то и подстрелят...
груду парт. Отогнув рогожу, привязываю веревку к деревянной ноге. Лезу
вниз. Тяну за веревку. Парта трещит, обрушивается. Никто не слышал? Никто.
Темнота.
снег, подмораживает. Варя - чумазая, с болячкой. Жалко ее. И все-таки
что-то подхлестывает, снова читаю:
за пальтишко. Что-то треснуло. Ревет, бедная! Напугал. А вслух: "Балда,
что же, я один должен тащить?" Умоляет: "Не надо так страшно!" Обещаю: "Не
буду". Снова впрягаемся. Молчу. В уме звучат последние строки, самые
страшные:
самому страшно. Девять мертвых старух...
и чем-то прекрасно. Страшноватая радость преступления кружит голову.
"Преступление" - от "переступить", перейти. Первый раз перешел. Виноват,
но герой...
притащили?" - "Парту", - правдиво отвечает Варя. "Откуда взяли?" -
"Нашли", - полуправдиво отвечаю я. "Где?" - "Во дворе".
детскую клятву: "Перед мамочкой скажу!" Варя молчит. Мама как будто
сомневается, но видно, что рада.
на мелкие части, пылает печная топка, яркий огонь оранжев, и в нем сгорает
все - и преступление, и ложь, и Варины слезы, и даже стихи про волков...
Блаженное тепло наполняет комнату, и два зеленых плюшевых кресла
становятся похожими на добрых зверей. И замерзшее пианино оттаивает,
издает звук.
12
Раз переступив, шагнув за пределы дозволенного, он стал другим человеком.
Попробовали бы теперь одноклассники его бить - ого!
Он уже ничего не боялся.
Разве мало в городе того, что может гореть? Он проникал в пустые,
покинутые жильцами квартиры. В бывшие учреждения, магазины. Искал и
находил горючее: доску, ножку стула, раму от разбитого зеркала. Вооружась
"фомкой", посягал и на подоконники, плинтусы, пороги. Что-то манящее было
во всем этом: азарт разрушения. Совесть молчала. Он крал, но ни у кого.
Крал у разрухи, у запустения. Не он возьмет, так другие.
стеклянными створками, расписанными любовно, затейливо. Цветы там были,
люди, звери... Когда он стал ее выворачивать с петель, она запищала, как
женщина. Он испугался: что делаю? Но преодолел себя. Нарочно поднял ногу в
валенке и разбил расписное стекло. Люди, звери, цветы посыпались на пол...
разметывал собственную жизнь? Душу свою единственную? Ну нет. Тогда он был
еще почти невинен, мальчик с "фомкой" в немытых руках, маленький охотник в
дебрях пустого города... Без его промысла семья могла погибнуть холодной
смертью.
вестимо", - отвечал он. Все очень просто. Добыча не кража.
маленькую буржуйку. Железная, даже, пожалуй, чугунная, на искривленных,
неуклюжих ногах (дразнил Варю, показывая на них пальцем). Стояла косо, как
пьяная. Трубу вывели в форточку. Когда дул ветер с той стороны, дым шел в
комнату, ел глаза. Из сочленений трубы капал деготь. Чтобы он не пачкал
мебель, вещи, к трубе на проволочках подвешивали банки. Когда дул ветер,
банки качались...
блокадная. Буржуйка в комнате у мамы с Клавдией. Какие там были ножки?
Хоть убей, не помню.
острых, одинаково старческих плечах - ватники. Сидели рядом, но отделенные
друг от друга взаимной неприязнью, это он сразу понял, как только вошел.
Сын Петя уже спал, накрытый всем теплым, что было в доме, целый ворох
одежд и одеял... У тени на стене были заячьи уши...
равнодушие - ведь так любила книги! - было почти как холодная смерть. К
тому же книги не грели. Один пепел и шелест...
косо усмехнулась и ответила: "Сил нет".
город опустел, жители разъехались. А в блокаду ехать было некуда.
Оставайся, умирай.
Носил дровишки, носил - и все-таки было холодно. Какой-то постоянный
сквозняк, то ли из незанятых комнат, то ли от окон. Дуло, дуло... Спали не
раздеваясь, в пальто, шапках, а то и в валенках. Мама на кровати с шарами,
он на зеленом диване. Варя на двух сдвинутых креслах. По утрам она
выглядывала из своего логова, как худенький, пухлогубый зверек.
овес, рожь, сушеные овощи - назывались "хряпа". Много лет спустя, когда
Федор Филатович где-то прочел слово "хряпа", у него защемило сердце и в
ноздрях запахло дымом. Вся еда припахивала дымком. Варили ее в чугунке на
буржуйке, сняв две вьюшки. Дым проскальзывал в щели, огибал посудину...
Готовил еду и топил буржуйку он - Варя не допускалась. Его право: он
добывал дрова. А готовя, мог на законном основании пробовать, облизывать
ложку... Варя обижалась, звала его "истопником" и "поваром".
восьмых фунта значит сто пятьдесят граммов, почти блокадная норма!). Мама,
служащая, получала больше, но ненамного. Делили поровну, мама норовила ему
подсунуть побольше, но все равно было мало, мучительно мало! Вот когда он
понял давние папины слова: "Голод - это когда нет хлеба". Хлеб снился,
мерещился - влажный, сырой, липкий, с торчавшей из мякоти соломой - но
хлеб!
черное, плотное, маслянисто блестящее. Дуранда хороша была тем, что долго
жевалась, прилипая к зубам. Долго-долго рот был занят делом, и голод
словно бы притуплялся.
какие" же счастливцы ели саму картошку? О ней можно было только грезить.
Из очисток мама пекла оладьи на касторовом масле. Только подумать, та
самая ненавистная в детстве касторка! Как же она была хороша!
еды? Тело забывает о голоде, только разум помнит. Уважение к еде
сохраняется на всю жизнь.
заплесневевших, в грязь затоптанных кусков хлеба. Потому и размачивал
корки, скармливал голубям.
плескалась, намерзали кружева по краям. Он жалел каждую каплю.
кольцом!" - командовал Варе. Что это значило "завиваться кольцом", не
вполне было ясно, но она завивалась.





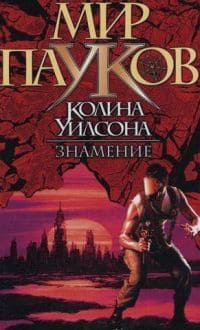
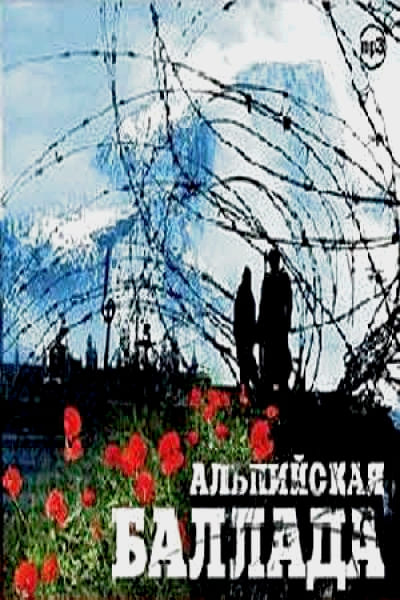 Быков Василий
Быков Василий Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Флинт Эрик
Флинт Эрик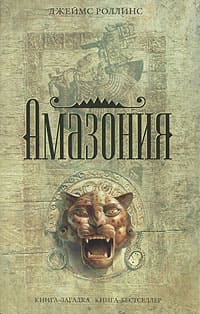 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс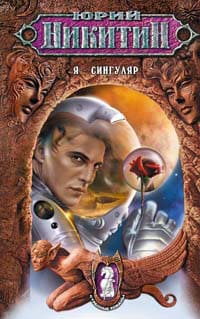 Никитин Юрий
Никитин Юрий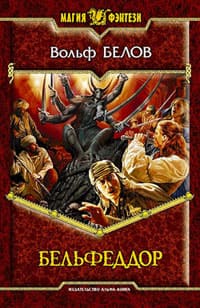 Белов Вольф
Белов Вольф