наперевес и те казались безоружными перед этими труженицами на ниве греха,
торгующими облегчением по сходной цене. Перевязанные, отмытые и зашитые,
девушки еще посидели с медсестрами, выпили по стаканчику, покуривая
американские сигареты в длинных перламутровых мундштуках и громко смеясь,
после чего отбыли на работу.
и взвинченные нервы не в счет. Гроза наконец разразилась и смыла последние
остатки моего бунтарского настроения. Ливень, пенистый, как пиво, стеной
обрушился на остров Сите, измочалил кроны деревьев, обломал на крышах
телевизионные антенны и дымоходы, похожие на выпавшие зубные протезы. Я
слонялась по больнице, стараясь не сталкиваться с полицейскими в штатском и
все надеясь, что вот сейчас, из-за этого поворота, из-за той двери появится
мой больной и я снова услышу его шелестящий голос и его, только его слова.
Он предал меня, и мне было обидно; все теперь казалось не важным, кроме его
незаконченной исповеди. За эти неполные двое суток как бы сместился мой
центр тяжести, и каждый из персонажей его рассказа был для меня живее и
ближе окружавших меня людей. Мне не хотелось подниматься к себе, ложиться в
кровать, где не было больше Аиды. Рассвет я встретила на шестом этаже,
облокотясь на мокрый еще парапет внешней галереи, выходившей в сад, -
отсюда открывался вид на площадь Мобер и холм Святой Женевьевы. Блестящие
от воды крыши громоздились друг на друга, будто перевернутые лодки, - море
отхлынуло, и они остались кверху килем на песчаном берегу. Моросило, стало
прохладнее, Эйфелева башня в тумане напоминала кофейный пломбир. Я заснула
прямо на ступеньках; здоровенный котяра, мерцая светлыми в блестках
глазищами, задрав восклицательным знаком хвост, пришел и примостился ко мне
под бочок. Нам обоим не хватало тепла и ласки.
зная, что никто здесь не будет обо мне скучать. Я чувствовала, что смешна:
надо же было до такой степени выйти из колеи. Ну что - ехать сейчас же в
Антиб к Фердинанду, лететь на крыльях истерики и сказать ему прямо, что все
кончено? Но я терпеть не могу сцен. Иных женщин как магнитом тянет к
блажным. Они и любят-то не человека, а постоянное ощущение неуверенности,
им в кайф игры на краю пропасти.
водостоки, выплеснул на асфальт всякую дрянь. Разбитая, с пустой головой, я
была на той грани усталости, когда забываешь, что ты вообще живешь.
Наверно, меня принимали за бродяжку: сумка болтается на плече
незастегнутая, косметика размазана. Дисциплинированные отряды туристов уже
стекались к собору, дружно, как по команде, наводили объективы на фасад.
Кто в шортах, кто в бермудах, они решительно шли на штурм святых мест с
камерами наизготовку, мечтая застать Господа Бога врасплох. Турист не верит
своим глазам, пока не запечатлеет увиденное на пленке.
Сены, маслянистые, даже липкие на взгляд, плескались об опоры мостов, от
вони впору было задохнуться. В Париже всегда кому-нибудь да приспичит
сделать содержимое своих кишок общим достоянием: ох уж эта клоака в
изысканном прикиде, Город-светоч, родина коммунизма в виде общего сортира.
Я шла под мостами, где на картонках или завернувшись в какие-то грязные
одеяла спали те самые бедолаги, что приходили за помощью в больнииу.
Вообще-то мне их будет не хватать. Я зашла в первое попавшееся кафе,
заказала кофе с молоком и рогалик. Теплый ветерок ласково гладил кожу.
Заливались птицы, выводя немыслимые симфонии своими крошечными горлышками,
листва полнилась их трелями, а когда они вспархивали стайкой, то казалось,
дерево взлетает вместе с ними. Поливальные машины частыми струями орошали
мостовую, и было приятно вдыхать запах мокрого асфальта.
Богоматери: для меня он всегда был мавзолеем, памятником из путеводителей,
экспонатом огромного всемирного музея. Лично я не люблю общепризнанных
шедевров. Но в то утро кое-что в знакомой картине заставило меня
остановиться. Собор подновляли, вся верхняя часть была в лесах, брезентовые
полотнища громко и как-то театрально хлопали на ветру. Спеленатые башни
выглядели до странного непрочными, беззащитными под натиском времени. Даже
бесы, злобные химеры, гаргульи были не более чем детскими фантазиями рядом
с тем, что приходилось видеть мне за один только день приема. Я поняла, что
не могу уйти с острова, не зайдя хоть ненадолго в собор.
как в подземелье, меня обступили колонны, я шла будто по лесу среди
высоченных стволов. Я осмотрела центральный неф, оба боковых, клирос, мало
что понимая в этой архитектуре. Розетки-витражи казались мне зашифрованными
посланиями, в которых каждый цвет, каждый штрих обозначали символы,
понятные лишь посвященным. Вопреки тому, что я думала раньше, в соборе не
было помпезно, скорее интимно. Он был так огромен, что каждый мог
чувствовать себя вольготно, и даже гомон толпы замирал, теряясь в вышине. Я
выбрала тихий уголок, присела на стул в середине ряда и, закрыв глаза,
вдохнула запахи ладана, сырого камня и старого дерева. Горели свечи, каждый
язычок пламени был окружен нимбом. Статуи святых в нишах, казалось, кивали
мне. Что, думают, так я и уверовала? Зря стараетесь, господа, я здесь
просто отдыхаю. Мужчины в черном суетились у алтаря, переставляли цветы,
золотые и серебряные вещицы, что-то наливали в чаши. Склонив голову на
руки, молились несколько старух. Я сидела, закрыв глаза, едва дыша.
Очищалась от ночных мерзостей.
пожалуйста.
вами.
оставили ?
донесете на меня в полицию.
маску почему сняли ?
изменилось.
прогнал. Я очень устала и не знаю даже...
Давайте останемся здесь, так будет спокойнее.
одинокий, осиротевший без единственного на свете человека, которому было до
меня дело. Едва водворившись в снятую для нас Стейнером квартиру в XVII
округе, отвратительную дыру с длинными темными коридорами, я заболел. Все
там было холодное, безликое. Слабенькие радиаторы не могли прогреть слишком
большие комнаты. Расшатанные половицы отчаянно скрипели. Я все время мерз.
Плотные занавеси на окнах не пропускали света. Темень была даже в полдень,
Я слег, и три недели меня трепала лихорадка, мучили боли в животе и ломота.
Я совсем расклеился, лежал в какой-то прострации, пытаясь взять в толк, что
же со мной произошло. Тысячу раз я мысленно вновь переживал те три
кошмарных дня, разрушившие мою жизнь, и не понимал, за что же это
злодейка-судьба вдруг на меня ополчилась. Меня засасывало в пучину, из
западни, в которую я попал, не было выхода.
просиживал у моей постели, пичкал меня сиропами, бульонами и таблетками.
Врача он вызывать поостерегся. Жером Стейнер звонил ему по мобильному
телефону каждый вечер ровно в шесть, отдавал распоряжения и сообщал, как
чувствует себя Элен. Говорить с ней мне не разрешалось, но общаться мы
все-таки могли: каждую субботу я получал посылочку - кассету с пятиминутной
записью голоса моей подруги - и отсылал с обратной почтой ответ, тоже пять
минут и тоже на кассете. Эти весточки, наверняка прошедшие цензуру, были
для меня единственной отрадой, я слушал их без конца, учил наизусть, и
только ласковый голосок моей Элен помогал мне не пасть духом окончательно.
По интонации я мог определить, бодра она или приуныла. Ее держали под
замком на чердаке "Сухоцвета", в комнатушке со звуконепроницаемыми стенами
и без окон. Через день выпускали на десять минут погулять на задворках
дома, затемно и под надзором Стейнерши. По ее словам, она не сердилась на
меня, ждала моего возвращения и коротала дни за книгами, которыми снабжала
ее Франческа. Например, она говорила:
толстею. Того и гляди, совсем заплыву жиром к твоему приезду. Я беспокоюсь,
как ты там? Простить себе не могу, что втравила тебя в эту историю. Мне
тревожно за тебя, ты у меня такой болезненный. Я хотела бы быть с тобой,
помнишь, как я тебя лечила?"
мучительно стыдно: я уехал, бросил се там, на пустынном нагорье, среди льда
и снега, оставил на милость двух фанатиков. Не раз я пытался поговорить с
ней по телефону. Но тщетно: Стейнер или Франческа всегда перехватывали
трубку и грубо осаживали меня. Я просил, требовал, пускал слезу.



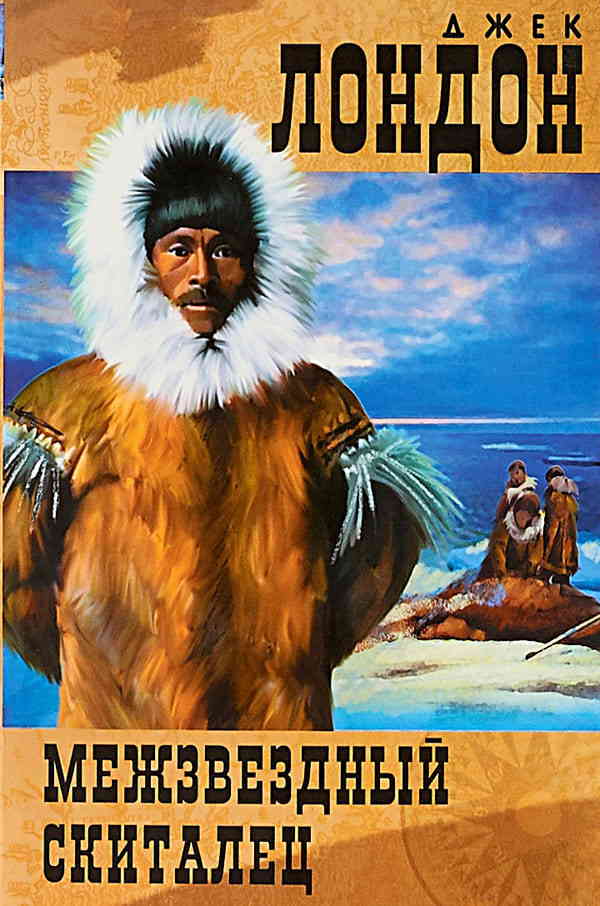
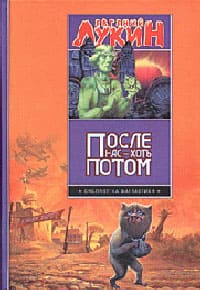

 Корнев Павел
Корнев Павел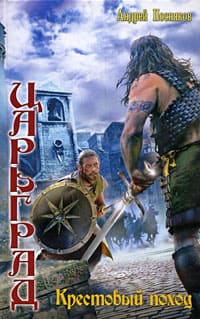 Посняков Андрей
Посняков Андрей Контровский Владимир
Контровский Владимир Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Смоленский Вадим
Смоленский Вадим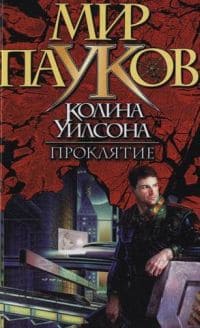 Прозоров Александр
Прозоров Александр