поудобней, чтобы не ломило их. Но болели ноги, и в коленях хрустело, щелкало
так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую
щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Нынче ничего. Поноют, поноют
в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезней,
отпихивает она все хвори к старым летам. Все скажется после: и фэзэошные
ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купанье в
заберегах, и игарская парикмахерская, и эта гибельная ночь на зимней реке.
отболели, отвалилися. Туды ли, суды ли... "Смерть Гитлеру!" Придумают жа!
Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси. Мало ли? Война. Всех она с
места стронула. Люди ходят и ездиют туда-сюда. Понесет лешак такого же ероя,
а огонек вот он. Моргат...
мык, и мык слился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело
сменялся короткими стонами, и все сучил и сучил шорник ногами, отыскивая им
подходящее место. Сипело в догорающей лампе. Огонек ее перестал колыхаться.
Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше, лишь
хрустел на стеколке окна растекающийся ледок да сонно шуршало за стеною по
бревнам.
болезнь, повторил я про себя.
Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному,
замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко
жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся.
Недостатки вооенной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах
переживали беспечно -- голодный-то тридцать третий год давно прошел,
забылся, -- получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню,
стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды.
горсть, картошек ведро; собирать колоски, перекапывать поля с мерзлой
картошкой; есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на себе
вязанки; высокие заплоты, где и ворота -- спалить на дрова, открыто жить,
вместе со всеми тужить и работать, работать, работать -- скопом, народом,
рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку.
далеко-далеко. А она вон как -- везде и всюду, по всей земле, всех в борьбу,
как в водоворот, ко всякому своим обликом.
огонек в лампе, вдавливало в трубу дым, он начинал пухнуть, в печке делалось
ему тесно, и в щели, меж кирпичей, в подтопок тянуло удушливой чернотой,
которую тут же свертывало, всасывало обратно в трубу, и дым, словно
колдун-черномор, качнув бородою, улетал вверх, раздувало и несло следом
искры, взрывалось по всей печи пламя.
лоскутьями кожи, мякиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась
полоса, и на пороге, в притворе толсто обозначился нарост льда. Я подбросил
в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы и какое-то
время сидел, слушая гуденье в трубе и пощелк разгорающейся печки.
временем снова засветились щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее
запахло смолою, потными хомутами, седелками, шлеями, развешанными вдоль
стен, наваленными в угол избушки и под стол. На столе нехитрые
приспособления, шорницкий инструмент: банка с гвоздями и шпильками, шилья,
наколюшки, самодельная игла, на косячке окна жгутом свита проваренная дратва
с вкрученными в нее медными проволочками. Выше, над надбровником окошка,
совсем уж ни к селу, ни к городу -- плакат закопченный. Изображен молодой
человек со значком на груди. Бодро вышагивал он на лыжах вдоль опушки
красивого березника. Внизу плаката били по глазам красные буквы: "Будь готов
к труду и обороне!"
и вяло заключил: "Да, конечно, пожимал бы теперь лапу небесному
привратнику..."
коменданта нашего фэзэо. Он босой шел по ухабам снега, с позолоченной
уздечкой в одной руке, хомут с веревочными гужами был у него на другой.
Взгляд святого умоляющ, скорбен, но я твердо заявил: "На фэзэошника никакой
хомут не наденешь! Ни в чертей, ни в святых фэзэошник не верит. Мастеру
верим! Мастер у нас -- Виктор Иванович Плохих. Не знаешь такого? Тогда ни
хрена ты не знаешь! А еще комендант! Думал -- не узнаю?! Крылышки приделал!
Песочить за самоволку явился? На-ко вот!.." -- Я попытался сложить кукиш, но
пальцы не лезли промеж друг дружки.
подталкивая меня к нарам, я, промаргиваясь, пялился на него и понять не мог
-- где я? Что я? Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного,
под мышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и
лошадью. В том, как вел меня шорник, и в том, как заботливо подсунул мне
какую-то лопотину в головах, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы боли
не причинить, укутал мои ноги, -- во всем этом было что-то все же женское,
вроде бы и бабушкино даже, воркотня шорника и та напоминала бабушкину
воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее снегом и чуть, совсем уж
чуть -- вагонной карболкою пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного:
"Спи, Господь с тобой! Христос с тобой!.."
хомутом в коленях склонился шорник, Подпоясанный серым дырявым фартуком.
Перехватив мой взгляд, он недовольно бросил:
далеко-далеко гремит война, и люди спят в снегу, и Санька левонтьевский там,
на улице, в такую стужу. Метель воет, заметает все и Саньку тоже.
какую-то жуткую бесконечность и заорал от ужаса, но сном подрубило мой крик.
горячей, докрасна раскаленной плите и проснулся оттого, что жгло ступни ног,
пекло и корежило лицо.
окончательно не проснувшись и не придя в себя.
теплые уголья. Хомутов на стене нет, и оттого в избушке сделалось
просторней. Обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных
крючков и зацепок. Старое седелко с оторванной подпругой брошено на чурбак.
За плитою бегают мыши, коротко попискивают, собирая корм. Одна мышка
прилипла к бревнам, взбежала по стене, поточила зубом сыромятную уздечку на
гвозде, вдруг поймала мой взгляд, птичкой спорхнула и подала сигнал тревоги.
кирпичной стенке плиты, стояли они, покоробленные, расщепленные.
и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от
ожога. И все же я дешево отделался.
дело: кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я
нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись, гляжу на молодого
плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в
порядок мысли, разбитые сном. Но пораПора!
кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе
раскиснешь. Я присел раз-друтой, поболтал руками и ногами, словно на уроке
физкультуры, затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она
не лезет. Я пощупал в ботинке -- свежая сенная стелька зашуршала под
пальцами. Я опустился на пол у печки, и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я
себе не дал, рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул ботинок,
другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки, замотал
фэзэошным полотенцем шею и залез в разорванное под мышкой пальто.
нагоревшим самодельным фитилем; нары в темном углу из скрипучих горбылин,
застланные сеном и поверху -- старой овчиной; изголовье из половины
соснового чурбака, покрытого хомутной кошмой и тряпьем; чайник на плите,
второй век живущий; алюминиевая гнутая кружка, иголки, проволочки в щелях
бревен, окно, будто в бане, -- черное, плакат с физкультурником -- эту
избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженой картошкой и овсом, я
постараюсь не забыть, если возможно, не забыть всю жизнь.
и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к
ближнему своему, и сделаю совсем близко лежащее открытие -- прежде всего из
таких вот избушек, изредка встречающихся на росстанях наших дорог.
кадке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками,
придавленной зверушкой пищало, хрупало.
одышлисый голос. -- Конь ведь, ко-онь, а не яман! Рабо-отнички, ать вашу
копалку!.. Где вы токо и родились? Чему училися? Да стой ты, одер
совхознай...
воздухом.


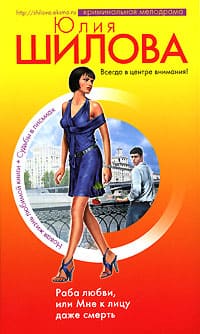



 Посняков Андрей
Посняков Андрей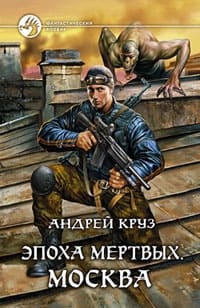 Круз Андрей
Круз Андрей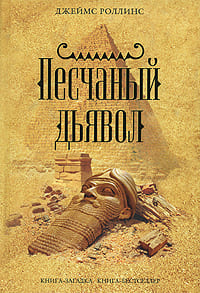 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс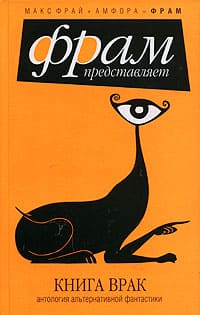 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман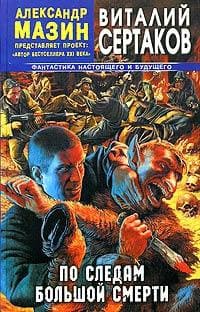 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий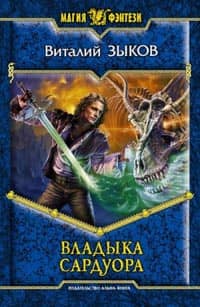 Зыков Виталий
Зыков Виталий