принюхался, затем подлез к моему уху:
табаку, бумаги клок и обломок от спичечного коробка. -- Курить мирово!
Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица оттеда турманом летела! Умора!
Катерина Петровна крестится: "Восподь спаси! Христос спаси!" Умора!
бабушкины слова. -- Не сносить тебе удалой головы!..
занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер
пятку.
молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились,
наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна
чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих,
когда те с гулянья домой являются, или на мужа -- Терентия, когда тот из
плаванья придет.
палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые,
привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.
велела!
раскаленных, но не обжигающих руку саранок.
Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. -- Потом опеть издыхать
примешься...
Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы,
довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце.
Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом,
отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и
мог смотреть -- все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил
нашего Ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.
кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже
бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь
жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду...
нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам...
падают встречь своей тени на воду. Плишки почиликивают, осы гудят, бревна
вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться -- Лидии-купальницы
наступят. Может, и мне дозволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть
только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и
сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь.
Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги
скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздьем копытами. В
воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто
поцеловался с таким же старым пегим конем.
бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы
за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел Ястреб на
галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.
грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже
пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.
ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.
потертостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к
крупу лошади.
волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой,
раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода,
сделавшего передышку, -- остановился богатырь озреть родную землю, подышать
ее целительным воздухом.
лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая
мошка, блошка, муравьишко заняты делом; Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы
скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огородина поспеет
на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом -- страда подойдет. Можно жить
на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще.
Заработаю.
Красноярск, "Офсет", 1997 г.
заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги
ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах ревела под ножом,
кони начали падать среди улиц. Сразу захмурели и вроде бы состарились дома.
Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы.
тайге, отыскивали диких коз, сохатых, маралов, медвежьи берлоги. Но снега в
ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуется и
зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу, в неприступные горы, словом,
голод гонит и волка из колка.
Верехтины и Саламатин-старик привезли коз. Поделились охотники с соседями
чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть.
продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он
был гостеприимен, пока получал из деревни что ему надо было. С пустыми
руками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был
голоден, этот большой и теперь неприветливый город.
зимнике мужики и бабы с котомками, понесли барахло и золотишко, у кого оно
было, на мену, в "Торгсин".
в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало
перебивалась. Бабушка усохла. Кость на ней выступила, характер ее, крутой и
шумный, заметно смягчился.
что с нею не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Снова пришел к
нам жить еще один "мужик" -- Алешка. Тетка Августа перешла с лесозаготовок
на Усть-Манский сплавной участок. Заимки на Мане перестали существовать, на
полях пошла работа другого порядка: катали и возили по ним лес, громоздили
штабеля там, где росли картошка, рожь и пшеница. Дед без пашни потерялся, не
знал, куда себя девать и где сеять хлеб.
денешь? Гуске паек давать на сплаву будут...
принято было обсуждать бабушкины действия, теперь и подавно.
Один раз консерву принесла -- "поросенок в желе". Желе это самое, по-нашему
студень, в банке было, но поросенка мы там но нашли. От него в банку
запечатали шкурку с косточкой.
город и променяла на хлеб. Потом дедушкин новый полушубок отнесла, потом
свою, бережно, по деревенской традиции хранимую -- для смертного часа --
одежду: платье, чулки, платок, чувяки и нижнюю бязевую юбку.
цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в
больших достатках?
"Зигнер", оглаживала рукой ее изношенное тело так, будто та была живая и
теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего
бы и не дали. Кроме того, работала машинка только потому, что бабушка до
тонкостей знала ее характер. Зауросит, бывало, машинка -- нитки рвать станет
или вовсе шить откажется -- бабушка поднимет ее корпус, обнажит с исподу
сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в
другое место, где из масленки помажет, где сметаной, дунет, плюнет -- и,
глядишь, застрочила машинка пулеметом, ожила на радость нашего и всех
ближних домов. Машинка хотя и была бабушкина, но в то же время как бы
принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И





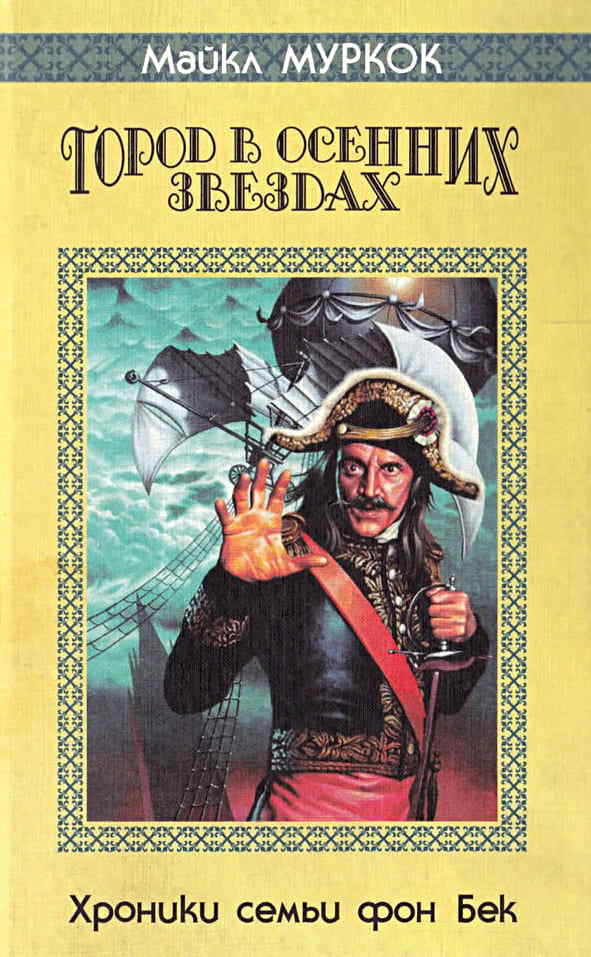
 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Шилова Юлия
Шилова Юлия Круз Андрей
Круз Андрей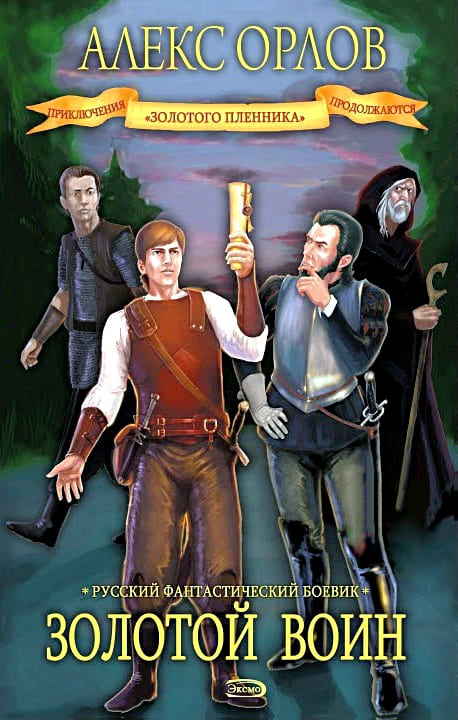 Орлов Алекс
Орлов Алекс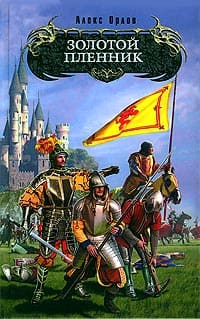 Орлов Алекс
Орлов Алекс Самойлова Елена
Самойлова Елена