локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не
нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку
старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул:
и на большее не рассчитывала.
цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила
вверх-вниз, вверх-вниз.
позицию выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было. И
начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со
звоном, зашикали друг на дружку, взрослые перекрестились на образа, малыши и
я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам
не сказала, поскольку тут все больше школьники.
четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам, тетя Люба наливала в
рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничной настойки.
Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан, негромко,
стеснительно призвал:
звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. В горницу неслышно, робко
втиснулся дядя Митрий, тот самый человек, о которых принято говорить: в
семье не без урода. Дядя Митрий -- бабушкино страдание, он горький пьяница.
Незаметно ото всех бабушка переодела дядю Митрия в чистую дедушкину рубаху и
штаны. Дядя Митрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен.
Дядя Митрий наскоро умыт и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками.
кружевной шелковый платок и с вызовом обвела взглядом застолье: "И позвала!
Вы как хотите, а я позвала!"
бабушки. Татьяна -- пролетарья, по выражению бабушки, она активист и
организатор колхоза. Все время заседает. Муж и дети ее до того запущены, что
видеть это бабушка не может и срамит невестку везде и всюду, подрывает ее
авторитет. Однажды бабушку каким-то ветром занесло в клуб, где шло собрание
и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что достаток людей в нашем
селе определялся по-чудному. Считалось, например, если у бабы нет штанов, то
уж распоследняя это, никудышняя баба, и грош ей цена!
подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но
штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не
знается с нею и в доме нашем не бывает.
ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая,
расшибла напряжение:
Тятя, с именинницей тебя! -- и бабушка поощрила деда;
жеманились, пригубляли чуть, совестясь друг дружки, они принялись за дело:
потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал,
что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.
мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье
колыхнуло смехом, говором, вскорости ребятишек спросили, наелись ли, дали
орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, приставку убрали, чтоб
в горнице посвободней было.
вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались
со смеху.
Таньке-активистке, она стучала вилкой по пустой четверти:
такой, будто она век всем уступала:
рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу
россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем
ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженней становился ее
голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь
густела и останавливалась в жилах.
и не песню, бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и
дочерей, подхватили они, подняли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все
худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет,
выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.
выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том,
чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору, будила бы песня только
добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о
родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не
будет уж никогда.
Марииному. Дядя Митрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся
рукавом, сотрясался весь, ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его
подскакивал хомутом.
когда звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова
"Реченьки" и повторились эхом над Енисеем-рекой, над темными утесами, в
нашей избе началось повальное целование, объяснения в вечной любви,
заглушаемые шмыганьем потылицынских носов, зацепившись за которые и большой
ветер остановится и про которые, хвалясь, говорят: пусть небогаты, зато носы
горбаты!
совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия.
со своего, тоже потылицынского, носа кулаком слезы.
столом Мишка Коршуков -- напарник дяди Левонтия по бадогам и сам дядя
Левонтий, -- объяснить невозможно. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по
дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.
столу дядя Левонтий. -- Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух,
ах! Тарабах!
и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь,
глядишь, вынесет в трубу, налила им сразу по полному стакану, поскольку
рюмки и прочая подобная посуда для такого народа -- не тара -- наперсток.
дедушкой.
кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко
булькало.
сплюнул под стол.
гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.
сердца. И вот пошла она, музыкаМишка Коршуков широко развел гармошку и тут
же загнул ее немыслимым кренделем. Оттуда, из заплатного этого кренделя,
чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь




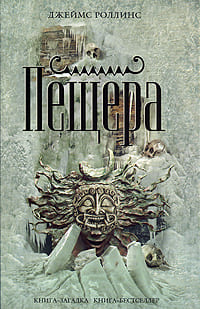

 Круз Андрей
Круз Андрей Никитин Юрий
Никитин Юрий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман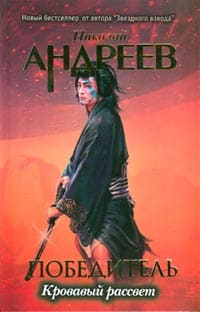 Андреев Николай
Андреев Николай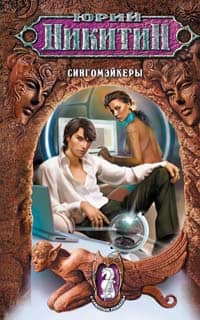 Никитин Юрий
Никитин Юрий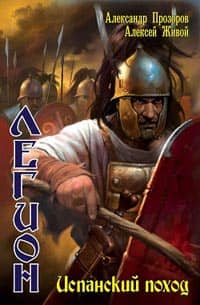 Прозоров Александр
Прозоров Александр