одобрительно, высморкался, набил еще раз трубку махрой и нежно мне сказал:
"Жиган, твою мать!.."
даже и директором средь налимов состоял. Вон у тя какая авторитетная пуза!
Уяснил?
хохотнул, еще раз назвал меня жиганом и сей же час сделался суровым:
и слезой" иль что-то в этом роде. За рыбачьи радости мы платили такими
муками и слезами, которые ведомы лишь каторжникам да рыбакам. Накаленные
морозом уды припаивались к пальцам и отдирались с кожей. Гальяны совсем в
руках не держались, выпавши в снег, тут же застывали и ломались спичками.
чадо Божье! -- подбадривал меня дед, а у самого усы, что гальяны, состылись,
того и гляди сломаются, и слова вроде бы как по-иностранному звучали --
свело губы морозом.
спрятали и бегом в гору, на яр. Стучали налимы в мешке, визжали на полознице
мерзлые валенки. Влетели мы с дедом в барачную комнатенку, будто в царствие
небесное на белых облаках, и сразу к теплу, руки в огонь суем, молча оттирая
друг дружку от дверцы печи.
деда бабушка из Сисима. Налимы меж тем оттаяли в лохани, наполненной водою,
заворочались, завозились, давай хвостами бить, брызгаться. Тот, что в лунке
застревал, до того разошелся, что из лохани вывалился, па пол шлепнулся.
Эшь, прыткий какой! Эшь, разбушевался! Эшь, разгулялся! Мы вот тебе! -- Дед
набросил шапчонку на голову, метнулся к двери.
остановить деда, но где ж успеешь его перехватить, моего деда, если он
устремлен к цели?
объяснял, что после издевательского наказания, понесенной кары от сельского
попа, этого долгогривого служителя культа, повредился у него желудок и не
приемлет налима без водки; кроме того, всем известно: любая рыба, пусть и
поселенец, посуху не ходит!
Не раз и не два будуг они потом расходиться и сходиться. Детям, рождавшимся
в моменты перемирий двух вроде бы совершенно ненавистных и все-таки страстью
влекомых друг к дружке людей, от их разладов, сбегов да разбегов будет
совсем не смешно.
барачной комнатушки, где я уж поднадоел всем и устал выглядывать куски,
которыми дед Павел иной раз не то чтобы корил меня, но как-то так проклинал
отца с мачехой, что получался и я в прицепе, лишним везде себя чувствовал,
особенно за столом.
пятый, и с чувством исполненного долга впервые в жизни отправился на
настоящую, промысловую рыбалку!
бывалый. С Высотиным плыло двое сыновей, парнишек крепких, небалованных,
Петька и Гришка. Одержим рыбалкой, правда, один лишь Гришка, этакий здоровый
уворотень. Петька же был мастак по части игры в лапту, в чику и еще здорово
плясал в школьной самодеятель- ности.
енисейском берегу между поселками Карасино и Полоем, на добром, как нам
сказывали, рыбном угодье. С берега по крутому каменному яру полузамытая
тропинка привела нас вначале к бане, вкопанной в берег, затем к крепко
срубленной, тесом крытой избушке с волоковым окном в стене и крыльцом, над
которым был когда-то навес, но его сорвало ветром, и он валялся поблизости,
ощетинившись ржавым гвоздьем.
телефонную нить на Крайний Север до самой Игарки. В избушке бывали и
загадили ее шальные охотники -- горожане, ягодники, грибники и рыбаки. Мы
взялись за дело, все отскребли, вымыли пол, изладили десяток мышеловок --
чурбаков. Мыши тучами ходили, даже по стенам. Угоив избушку, мы истопили
баню, напарились в ней. Вечером мужики выпили по случаю высадки на
незнакомый берег и закрепления дружбы, и до глубокой ночи из жарко
натопленного становья разносилось далеко по окрестным лесам: "Обнесен стеной
высокой Александровский централ". Папа кричал, зажав в отчаянии головушку
ладонями, Высотин басил, зажмурившись, мы в три мальчишеских горла звенели
поддужными колокольцами поверху.
-- не до песен было. Для начала поставили пяток в пару связанных становых
сетей-паромов, к которым надо две тяжелые якорницы да еще третью якорницу,
что держит наплав. Пяток сетевых ловушек -- только начало, чтобы "нащупать"
ход рыбы. Один паром попал на уловистое место, остальные пришлось не раз и
не два переставлять, добавлять к ним несколько паромов, чтоб сети
попеременке вынать и развешивать на починку и просушку. План нашей бригады
был задан -- шестнадцать центнеров на сезон, добывать рыбы надо было больше:
на еду, на продажу, потому как сезонным рыбакам выдавали небольшой "аванец",
остальные деньги по договору выплатить должны были в конце путины.
случались осетры, горбуша одно время повалила -- это на паромы и переметы;
"по кустам" -- как здесь выражаются, по заливам, заостровкам и возле берегов
мы "сшибали" старыми мережками щуку, окуня, сорогу, налима, нет-нет
вытаскивали тайменей-подростков, большие таймени пластали в клочья старые
мережи, вырывались, оставляя дыры, да такие, что мы, парнишки, пролазили в
них, поражая артель силою и размерами ускользнувшей рыбины.
вялые, однако на веслах, в труде разогревались, разминались и работали
дружно, порой даже весело, азартно. Мы с Гришей орудовали гребями, Петька на
корме, мужики управлялись с якорницами и сетями. За тетивы, за веревки
якорниц и за весла без верхонок -- рукавиц мы не брались, но ладони наши все
равно покрылись красными мозолями и трижды, если не четырежды, сошла кожа с
рук, пока не огрубела, не закрепла, как обух топора, и больше руки не
прокалывало рыбьими колючками, не разъедало кожу солью.
берегу. Еще в пути от наплавов Высотин, облюбовав стерлядь килограммов на
пять, грохал ее сделанным наподобие топорища крюком по костяному черепу и
начинал разделывать рыбину, полоскать ее в воде, членить на куски. Пока мы
раскидывали сети по вешалам, убирали рыбу в бочки, выплескивали воду из
лодки и мыли склизкий подтоварник, на очаге, устроенном из камня, уже кипела
в противне, согнутом из толстого железа, стерлядь. Навешенный на таган
ведерный медный чайник начинал посвистывать и бросать из рожка воду,
запаренную смородинником или белоголовкой.
если не было ветра, и уминали за раз с моим худосочным папой буханку хлеба,
подбирали жарево до последнего хрящика, вымакивая кусочками приправленную
береговым луком жижицу, после чего опорожняли чайник и, едва переставляя
ноги, тащились в угор. Первое время мы, парнишки, ладились падать на нары в
сырой одежде, но мужики нас пинали, заставляя сымать хоть верхнюю одежду.
понимая, где мы, что с нами, постепенно приходили в себя, привыкали к миру
Божьему, включались в дела. Упочинка сетей, разделка рыбы, изготовление
якорниц, наплавов. Надо было и в избушке прибираться хоть раз в неделю,
топить баню -- упаси Бог опуститься на промысле -- и простынешь, обветренные
губы и лицо полопаются, ноги от сырости и нечистых портянок сотрутся,
заослеешь, грязью зарастешь и, значит, отдыха хорошего знать не будешь, а
нет отдыха -- и труда доброго ждать нечего.
следовало запастись дровами на пору дождей и холодов, набить ореха, ягод
набрать, рыбы повялить, словом, работы день ото дня не убывало, а прибывало.
поднимался шторм, наваливалась непогода, на реку попасть невозможно, главной
заботы нет. Мы подымали высоко на берег лодку, опрокидывали ее вверх килем,
сухие сети свешивали в баню и на чердак избушки, бочки с рыбой, вкопанные в
берег, плотно закрывали мешковиной и деревянными крышками, чтоб не
захлестывало песком; мылись в бане, подолгу, с чувством. Вспомнив старое
рукомесло, папа всех нас подряд стриг под "польку-бокс", стукая ножницами по
башке парнишек, чтобы не вертелись лишку, и все удивлялся, оболванивая меня:
"Этакая головища, а пустая!.." Я тайком ощупывал свою башку, стучал кулаком
в лоб -- голова как голова, ничего особенного, звучит в середке, вроде бы и
правда как в пустом котле.
Отоспавшись, мы всей артелью отправлялись в лес за ягодами, грибами, ближе к
осени -- за кедровыми шишками. Все это было тут же, вокруг становища. Чуть
поодаль, па озерах, жили утки, и мы охотились на них. Иной раз сшибали на
ягодниках глухаря, возле беломошных болот били пестрого куропана, гоняли и
путали молодых зайцев.
бабушку Катерину Петровну и других пристальных людей, считающих -- раз от





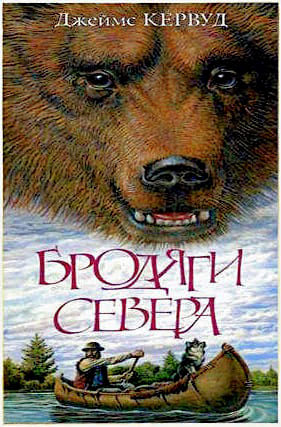
 Лондон Джек
Лондон Джек Орлов Алекс
Орлов Алекс Майер Стефани
Майер Стефани Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Земляной Андрей
Земляной Андрей