головой. Дышать стало легко. Ближе и свежее сделался запах веников, сухой
травы. Село, подворье наше, и я вместо с ними, согласно и доверчиво
погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой,
запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять
жвачку во рту, переступила, вздохнула, пробно скрипнула жвачкою, еще раз
вздохнули и зажевала, зажевала...
проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до
седьмого пота.
углу и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешанные
попарно на слеги и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз
шапки о поперечины, шарили в темноте, отыскивая их.
лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез
горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под
ним мокрые перышки. Где сейчас говоруньи ласточки? Тоскуют небось по своему
дому, по этому вот сараю, по нашему селу.
вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми
копытами.
крестися...
купишь, токо удачей...
Кольча-младший сказал:
придется?
заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить -- коров не доить...
надо, теплое чтобы, с отрубями. Если оплосками поить, тогда, конешно...
самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат
вилы, -- подскребают с саней. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из нас с
Алешкой.
граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики
составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками,
вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце.
углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал
сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с
бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые,
пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и
переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший
полез было за кисетом, да бабушка заворчала:
зелье клятое сколь влезет!
-- никто не имел права его занимать. Кольча- младший глянул на нас,
рассмеялся:
дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ох
уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов на день. Все
остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось.
него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал
обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами.
понял -- это от зайца. Мы схватили калач. Он мерзлый, что камень. По очереди
пытались откусить от него хоть крошечку.
Дедушка еще глубже залез рукою к мешочек и долго-долго не вынимал подарок,
тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас.
затрепыхалось, потом опять остано- вилось, в глазах рябило от напряжения. А
дед томил. Ох, томил! "Ну, дедушка! -- хотелось крикнугь. -- Да что же у
тебя там еще, что?" Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного, стылого
мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его:
показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в
ладоши -- у нас с ним одинаковое представление о медведе.
подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас,
подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито
выговаривает деду:
некогда было и не хотелось вроде бы. С замусоленным огрызком калача и
плиточкой шаньги залезли мы на полати. На печке сегодня спит дедушка -- он с
холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача,
Алешка -- кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один
другого лесом, медведем. Полати под нами прогибались, тесины ходуном ходили,
но никто на нас не кричал -- все уморились, на морозе напеклись и крепко
спали.
дивно-дивные сны.
Красноярск, "Офсет", 1997 г.
ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.
куплю тебе пряник.
этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже
розовые.
иначе будет худо. Но пряник -- совсем другое дело. Пряник можно сунуть под
рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от
ужаса -- потерял, -- хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться -- тут он,
тут конь-огонь!
тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки
стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть
его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать
пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе
Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.
Левонтий заготовлял лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый
завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять
дней, а может, и в пятнадцать -- я точно не помню, -- Левонтий получал
деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше,
начинался пир горой.
левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала
тетка Васеня -- жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в
горсти рублями.
принесла! -- И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.
перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только
приотпустят вожжи.
я помню, больше семи или десяти рублей из "запасу" на черный день бабушка
никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот "запас" состоял, кажется,





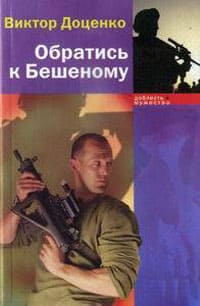
 Березин Федор
Березин Федор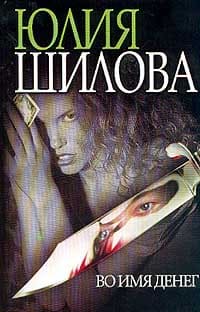 Шилова Юлия
Шилова Юлия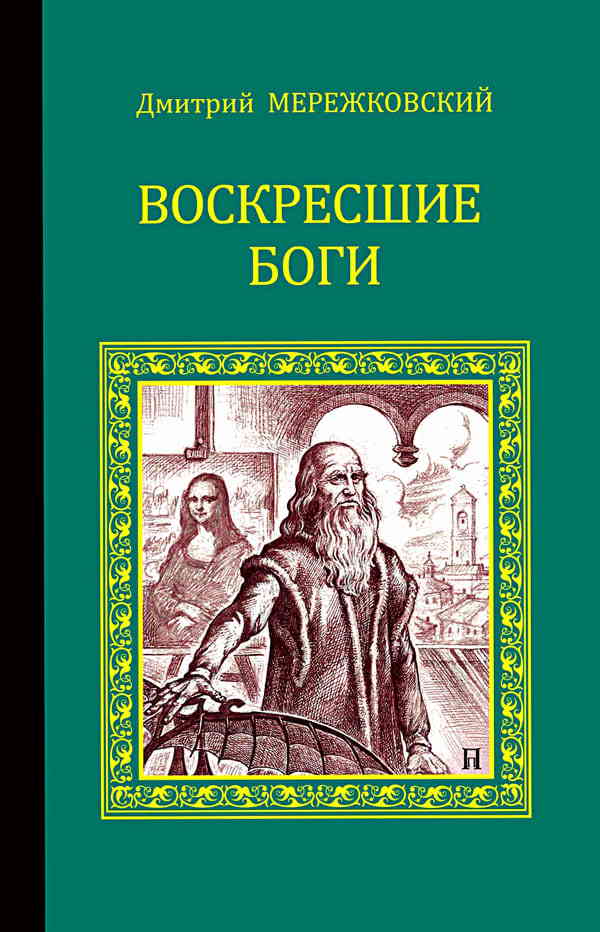 Мережковский Дмитрий
Мережковский Дмитрий Березин Федор
Березин Федор Самойлова Елена
Самойлова Елена Шилова Юлия
Шилова Юлия