ГАЙТО ГАЗДАНОВ
ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА ВОЛЬФА
жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я
совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не
испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так
как это случилось в очень исключительных обстоятельствах и было ясно, что я
не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок, не знал об этом. Это
был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны; в общем ходе тогдашних
событий это могло рассматриваться как незначительная подробность, тем более
что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому
эпизоду, его исход интересовал только нас двоих - меня и еще одного,
неизвестного мне, человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не
участвовал.
в смутных и неверных очертаниях, характерных почти для всякого боя каждой
войны, участники которого меньше всего представляют себе, что происходит в
действительности. Это было летом, на юге России; шли четвертые сутки
непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и
перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, я не
мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Я помню только те
ощущения, которые я испытывал и которые могли бы иметь место и в других
обстоятельствах, - чувство голода, жажды и томительной усталости; я не спал
перед этим две с половиной ночи. Стоял сильный зной, в воздухе колебался
слабеющий запах дыма; час тому назад мы вышли из леса, одна сторона которого
горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная
палевая тень. Мне смертельно хотелось спать, мне казалось тогда, что самое
большое счастье, какое только может быть, это остановиться, лечь на
выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем решительно. Но именно
этого нельзя было делать, и я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть,
изредка глотая слюну и протирая время от времени воспаленные бессонницей и
зноем глаза. Я помню, что, когда мы проходили через небольшую рощу, я на
секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стоя заснул под звуки
стрельбы, к которым я давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг
меня не было никого. Я пересек рощу и пошел по дороге, в том направлении, в
котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тотчас же меня
перегнал казак на быстром гнедом коне, он махнул мне рукой и что-то невнятно
прокричал. Через некоторое время мне посчастливилось найти худую вороную
кобылу, хозяин которой был, по-видимому, убит. На ней были уздечка и казачье
седло; она щипала траву и беспрестанно обмахивалась своим длинным и жидким
хвостом. Когда я сел на нее, она сразу пошла довольно резвым карьером.
рощицы, скрывавшие от меня некоторые ее изгибы. Солнце было высоко, воздух
почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось
неверное воспоминание о медленности всего происходившего. Мне по-прежнему
так же смертельно хотелось спать, это желание наполняло мое тело и мое
сознание, и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в
действительности, конечно, не могло быть таким. Боя больше не было, было
тихо; ни позади, ни впереди меня я не видел никого. И вот на одном из
поворотов дороги, загибавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя
лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое
и темное - потому что мои глаза были закрыты - пространство, но успел
высвободить ногу из стремени и почти не пострадал при падении. Пуля попала
ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел,
что не очень далеко за мной тяжелым и медленным, как мне показалось,
карьером ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не
было винтовки, я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался
револьвер, который я с трудом вытащил из новой и тугой кобуры. Я простоял
несколько секунд, держа его в руке; было так тихо, что я совершенно
отчетливо слышал сухие всхлипывания копыт по растрескавшейся от жары земле,
тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание
маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил
поводья и вскинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал наперевес. В
эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него и медленно упал
на землю. Я оставался неподвижно там, где стоял, рядом с трупом моей лошади,
две или три минуты. Мне все так же хотелось спать, и я продолжал ощущать ту
же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня
впереди и долго ли еще буду жив, - и неудержимое желание увидеть, кого я
убил, заставило меня сдвинуться с места и подойти к нему. Ни одно
расстояние, никогда и нигде, мне не было так трудно пройти, как эти
пятьдесят или шестьдесят метров, которые отделяли меня от упавшего всадника;
но я все-таки шел, медленно переставляя ноги по растрескавшейся, горячей
земле. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет двадцати
двух - двадцати трех; шапка его отлетела в сторону, белокурая его голова,
склоненная набок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я
наклонился над ним и увидел, что он умирает; пузыри розовой пены вскакивали
и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза, ничего не произнес и
опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать
немеющими пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг легкий порыв жаркого
ветра донес до меня издалека едва слышный топот нескольких лошадей. Я
вспомнил тогда об опасности, которая могла мне еще угрожать. Белый конь
умирающего, настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это
был огромный жеребец, очень выхоленный и чистый, с чуть потемневшей от пота
спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью; я продал его
за несколько дней до того, как покинул Россию, немецкому колонисту, который
снабдил меня боль шим количеством провизии и заплатил мне крупную сумму
ничего не стоящих денег. Револьвер, из которого я стрелял, - это был
прекрасный парабеллум, - я выбросил в море, и от всего этого у меня не
осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно
преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако,
как проходило время, оно постепенно тускнело и почти утратило под конец свой
первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки
забыть это я никогда не мог. Много раз, - независимо от того, происходило ли
это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, -
я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг из глубины моей памяти опять
возникал этот знойный день на юге России, и все мои тогдашние ощущения с
прежней силой возвращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую громадную
тень лесного пожара и медленное ее смещение в треске горящих сучьев и
ветвей, я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти
непреодолимое желание спать, беспощадный блеск солнца, звенящую жару,
наконец, немое воспоминание моих пальцев правой руки о тяжести револьвера,
ощущение его шероховатой рукоятки, точно навсегда отпечатавшееся на моей
коже, легкое покачивание черной мушки перед моим правым глазом - и потом эта
белокурая голова на серой и пыльной дороге и лицо, измененное приближением
смерти, той самой смерти, которую именно я, секунду тому назад, вызвал из
неведомого будущего.
образом, это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не
уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было
суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае, обстоятельства,
сопровождавшие его и все, что было с ним связано, - все возникло передо мной
с особенной отчетливостью через много лет в Париже. Это случилось потому,
что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени
которого я до сих пор никогда не слышал. Сборник назывался "Я приду завтра"
- "I'll Come To-morrow", - по первому рассказу. Их всего было три: "Я приду
завтра", "Золотые рыбки" и "Приключение в степи", "The Adventure in the
Steppe". Это было очень хорошо написано, особенно замечательны были упругий
и безошибочный ритм повествования и своеобразная манера видеть вещи не так,
как их видят другие. Но ни "Я приду завтра", ни "Золотые рыбки" не могли,
однако, возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был
естественен для всякого читателя. "Я приду завтра" был иронический рассказ о
неверной женщине, о неудачной ее лжи и о тех недоразумениях, которые за этим
последовали. "Золотые рыбки" - действие происходило в Нью-Йорке - это был,
собственно говоря, диалог между мужчиной и женщиной и описание одной
музыкальной мелодии; горничная забыла снять небольшой аквариум с
центрального отопления, рыбки выскакивали из очень нагревшейся воды и бились
на ковре, умирая, а участники диалога этого не замечали, так как она была
занята игрой на рояле, а он - тем, что слушал ее игру. Интерес рассказа
заключался во введении музыкальной мелодии как сентиментального и
неопровержимого комментария и невольного участия в этом бьющихся на ковре
золотых рыбок.
стояла строка из Эдгара По: "Beneath me lay my corpse with the arrow in my
temple"(1). Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я
не могу передать чувства, которое овладевало мной по мере того, как я читал.
Это был рассказ об одном из эпизодов войны; он был написан без какого бы то
ни было упоминания о стране, в которой это происходило, или о национальности
его участников, хотя, казалось бы, одно его название, "Приключение в степи",
указывало на то, что это как будто должно было быть в России. Он начинался
так: "Лучшая лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, был жеребец белой
масти, полукровка, очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой
и широкой рысью. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы его сравнить с
одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство,
вдобавок, подчеркивалось тем, - для меня лично, - что именно на этой лошади
я ехал карьером навстречу моей собственной смерти, по раскаленной земле, в
одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь".






 Посняков Андрей
Посняков Андрей Андреев Николай
Андреев Николай Белоусов Валерий
Белоусов Валерий Куликов Роман
Куликов Роман Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий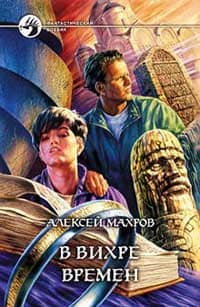 Махров Алексей
Махров Алексей