получился мальчик? Такая досада!
разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала; "Будь
готов! Всегда готов!" -- пришлось оставить. В этом же Доме культуры она
какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое
начало? Вдохновение? Гром оваций? Клубное имущество у Степы частью
разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие
воспитателем молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для
дитя, чтоб оно...
физкультуры опять же при районном Доме культуры.
клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми
булками. Его тетешкали, щекотали, подбрасывали под потолок какие-то
взвинченно-веселые тетеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми
глазками и с оглушающим запахом сивухи изо рта. От грохота, от воя, от
песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных отвратительных запахов и
нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но главное
-- навсегда ушел в тихую, уединенную работу. Он все время рисовал на клочках
бумаги, на оборвышах плакатов, реклам, лозунгов, рано овладел оформительским
искусством, ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать,
рос хоть неподатливо, поскольку был заморен, однако бурной деятельности
Степы не мешал.
культуры про весну человечества, но в это время трубач Боярчик, о котором
Степа давно и думать-то забыла, где-то чего-то натворил-таки и загремел в
тюрьму, скорее всего за длинный язык, за безобразное отношение к передовому
искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку,
порасспрашивали маленько и поняли: ничего, никакой правды от этой особы не
добиться -- она пребывает в недосягаемых высотах, по этой причине плохо
помнит, чего сегодня ела и ела ли вообще, где и с кем спала да и спала ли,
на кого оставила горемычное дитя свое.
леспромхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было
удобно: сунешь бабам Фелю -- они его накормят, напоят, в корыте вымоют,
спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побранят маму, не без
того. Да с нее как с гуся вода, тронутая, да и только, побранят-побранят да
и накормят -- куда ее денешь? Больше всех жалела Фелю вислобрюхая от
многорождаемости ходовая спекулянтка и отпетая кулачка Фекла Блажных. Среди
ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал,
валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки.
Деревенские, эстетически слабо развитые чада Блажных те картинки
приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась Феле
картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай,
барак обколочен был такими картинками.
бревенчатом клубе, Степа сделалась заслуженным работником, грамоту с красным
знаменем получила. В середке грамоты знамя с кисточками золотыми, в кружочке
Ленин -- Сталин помещаются, посередке герб с колосьями, с другого боку, тоже
в кружочке, -- Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
спрятала: оборони Бог ребятишки порвут -- в тюрьме все семейство сгноят. И
хитрая ж, отпетая баба, все талдычила героической труженице на ниве
культуры:
просить, заслуженному человеку жить в бараке не полагатся. -- И прозрачный
намек вдогонку: -- Дома в леспромхозе сдают о две половины, в одной половине
куфня и комната, в другой -- куфня и комната, дак ты бы просила для себя и
для нас -- нам Феля как родной, мы б его доглядывали...
кого она не просила, -- домик ей и семейству Блажных вырешили. Может, еще и
потому вырешили, что сам Блажных -- отпетый, конечно, элемент и контра
неисправимая -- показывал тем не менее в лесосеке чудеса трудовой доблести,
да и ребятишек у Блажных шестеро, седьмой на улицу просится. Да еще выселены
вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической
лесоиндустрии, тоже где-то век доживать должны.
спецпереселенцы Блажных с домиком на окраине поселка, на улице Карла
Либкнехта: вход один они заколотили, сохранили одну печь с плитой и
духовкой, увеличив ее в объеме, вторую плиту разобрали и на месте ее слепили
русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали.
Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с
Фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай что почти
по-городскому: купили розовый абажур для электролампы, над угловиком- полкой
приколотили рамку со Степиной грамотой, втолкнули сюда еще старое, из
деревни вывезенное зеркало с выкрошившимся в дороге низом, Фекла сама
застелила угловик вязаной скатеркой и на казенную железную кровать приладила
прошву, на пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту
благодать:
готовы тебе послужить.
наступала и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли баня, сараи,
свинарник, дровяник, нужник, на двери которого выпилено сердечко, погреб.
Само собой, и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В
общем, живи -- не тужи.
совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не
забывал, тайно любил ее, гордился ею, одна она такая подкованная культурой,
на весь леспромхоз одна, стихи читает, на баяне играть может, надо, так
станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в
лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда
первым в области среди всех остальных клубов, премии получал от профсоюза
лесной промышленности, случалось, и от партийных органов кое-что
отламывалось.
и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новолялинским поселком
глубоко в лес врубалось кладбище некрашеными крестами и просто холмиками
безо всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост,
зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутый
кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами.
кладбище, потом начал его рисовать. Фекла обрызгивала мальчика святой водой,
рисунки с крестами бросала в печку. Степа же все кричала про весну
человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике -- про
лесорубов, про их неустанный ударный труд: "Утром морозным сквозь синий
туман сотни рабочих спешат по цехам, каждый с любовью к родному станку, к
молоту, топке, зубилу, сверлу. Глухо удар за ударом о свар, брызгает искрами
каждый удар".
малолетстве напутанный шумом, выросший в семье спецпереселенцев Блажных,
Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда мал
и глуп был, под водительством братьев Блажных дрался, но потом засмирел,
одомашнился, лишь виновато всем улыбался да рисовал, рисовал. Фекла любила
Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза,
за кроткий нрав, всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в
художники выйдет.
решала: -- Может, и в богомольцы, может, вину-то человечью перед Богом ему
вот и суждено отмолить?
же ему и выйти негде было, но писать плакаты, вывески, картины в
леспромхозовском Доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее
агитационно-массовой работе, а дому Блажных каким-никаким заработком.
Пожалуй, в художники-оформители вышел бы, да тут война.
баб причитала:
теплые взял ли? Метрику, метрику-то?.. Не надо метрику? А че надо? Скажи,
скажи, ничего не пожалею... Да пиши ты, пиши почаще. Да не подставляй свою
разумную головушку под всякую пулю... Кабы я могла бы, дак за тебя бы на
позиции пошла. Какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем
обидели-прогневили тебя -- прости и о Боге, о Боге небесном не забывай...
которой раскоряченно громоздилась дощатая трибуна в сохлых, с Первомая
приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя
себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына, он ее на лету
поймал, прижал ко груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь:
Гони и бей!.. Гони и бей...
шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь
вид ее говорил: "Тронутая и есть тронутая! Че с ее возьмешь!.. Нет чтоб
ребенку человеческое слово сказать, Божецкое ему напутствие сделать...
Стыдно перед людям..." Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку,
совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными
губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, изболелым бабьим нутром она
выстанывала:


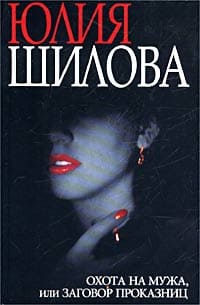
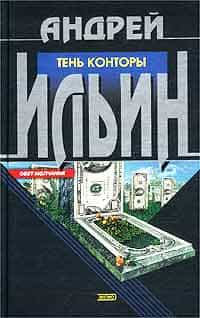


 Березин Федор
Березин Федор Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Ларссон Стиг
Ларссон Стиг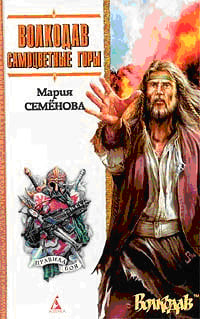 Семенова Мария
Семенова Мария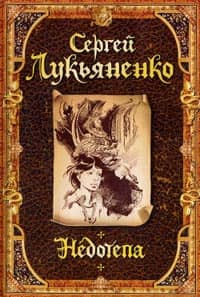 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей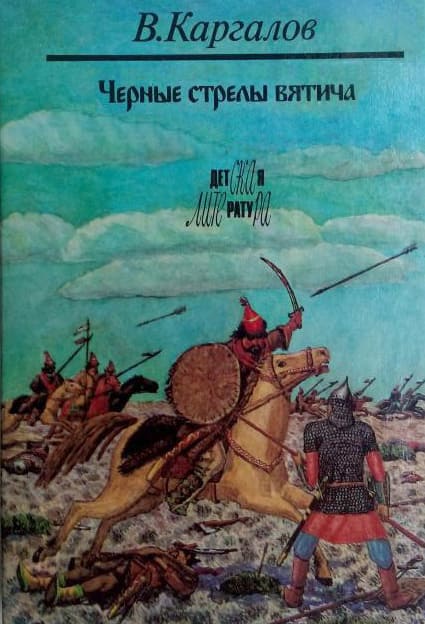 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим