мудрыми и старыми, одергивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя
-- ведь им, и Ерофею с Родионом, тоже хотелось туда, наверх, на бревно, и
оттого, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до
такой ярости, какой в себе и не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком
впившихся в бревно паникеров. Булькая ртом, те уплывали куда-то, но
возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто
подбитые утки крыльями, отпинывались, кусались, старались завладеть бревном.
оборвал светящуюся нитку, повреме- нил, ровно бы вдергивая нитку в ушко
иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся
опыта, Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили.
Выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша во вновь прянувшем
свете, подивились своей везучести -- почти всех пловцов с бревна счистило.
Между делом смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной
работой, сек горящую темноту, сплетая огненные нити с том клубом огня,
который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками
белого пламени.
определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в
человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды
возникающих людей: "Не лезьте! Не лезьте! Не надо! Нельзя!" -- греблись
еле-еле -- все силы истрачены. Когда коснулись отерплыми ногами каменистого
дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь, еще какое-то время
тащились на коленях, толкая бревешко, потом уж разжали пальцы и выпустили
его. Кто посильней, подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по
несчастью. Покалывая живой щетиной одряблую от воды кожу на щеке Родиона,
Ероха и какой-то дядек подхватили, замкнули его руки на шеях -- зачтется
такая милость, верили и спасенный и спасаемые.
свалились на берег, но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от
горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река.
Стыдясь тайного чувства, Ерофей и Родион, случайные товарищи, -- ликовали:
они-то здесь! Они-то на суше. Они прошли сквозь смерть и ад... они жить
будут...
и кровью, сразу -- вот какой он сделался догадливый! -- сразу уразумел --
это кровь из-под ногтей. Его кровь, тряпки же от гимнастерок тех... И вот
ведь какой он добрый сделался! Не было в нем ни зла, ни ненависти, но и
сочувствия тоже не было -- одна облегчающая слабость. А ногти, они отрастут,
руки поцарапанные, в занозах и порезах -- заживут. Расслабились солдаты,
горячее текло из тела, прямо в штаны текло, и так текло, текло, казалось,
конца этому не будет.
немцы! Фрицы, кажись!
и спасались -- они же воевать должны. Они на фронте. Они не просто
утопленники, которых в деревне, если поднимут из воды, то все жалеют, в бане
отогревают, кормят хорошо и работой целый день, когда и два -- не неволят.
Им же задание выполнять надобно -- связь проложить.
бросились к темной крутизне берега, к кустам или каменьям. Впереди них
кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже упал и понял, что человек, бежавший
впереди, не в белой рубахе вовсе, он нагишом. Ерофей хотел оттолкнуть
Родиона от голого человека, на которого тот следом за ним свалился, голый же
человек, зажав рукою причинное место, вскочил и рванул по каменьям в гору,
но тут же, взмахнув руками, упал.
Трусы! Стой, сто-ой, сволочи! Стой, изменники!...
потрескавшихся, царапающихся камней, ладонью прижал Родиона -- никак его
ноги в камни не затянешь... -- дохлые ноги, длинные, дохлые. Бывалые
фронтовики говорили: немец, если напьется, в атаку пойдет, так по-нашему
материться начинает, потому как наш, русский мат -- самый в мире
выразительный, но в Бога и в рот только наши могут, потому как неверующие...
по кустам секли какие-то люди.
Воевать не хочешь...
на левый берег, им же полагается быть на том, на правом, где немец. Им
воевать полагается. И вот люди, которым судьба выпала не плавать, не тонуть,
а выполнять совсем другую работу, -- вылавливали ихнего брата и гнали
обратно в воду. Они удобное на войне место будут отбивать яростней, чем
немцы-фашисты -- свои окопы. Ведь эта ихняя позиция и должность давали им
возможность уцелеть на войне. Доводись Родиону и Ерофею так хорошо на войне
устроиться, тоже небось не церемонились бы. Вот только не получалось у них
-- у смоленского крестьянина и вятского мужика -- удобного в жизни
устройства, не могли, не умели они приспособить себя к этому загогулистому,
мудрому и жестокому миру -- больно они простоваты, бесхитростны умом --
стало быть, поднимайся из-за камней, иди в воду, под выстрелы, в огонь иди.
И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, как им показалось,
безглазые, клешнерукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся
рубахой ширкало каменьями выступившие позвонки и ребра. Оба мужика, и
молодой, и пожилой, рахитными были в детстве, младенцами ржаную жвачку в
тряпочке сосали, да и после объявленной зажиточной колхозной жизни на
картошке жили, негрузные, с почти выдернутыми суставами ног и рук,
волоклись, разбивая о камни лица, и не сопротивлялись, как тот пожилой
дядька, в котором являлась такая живучесть, что он с воплями выскакивал из
реки, рвался на берег. Тогда нервный от нечистой работы командир юношеским
фальцетом взвился:
забитым ртом выплюнуть вместе с песком:
иссякло мужество -- не хватит их еще на одно спасение, чудо не может
повториться, -- они не говорили, не смели говорить. Выколупывая песок,
дресву из рта, сблевывая воду, которой был полон не только тыквенной формы
живот, но и каждая клетка тела свинцом налита, даже волосок на голове нести
сил не было. Младшего ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от
недоедов зубы хрустнули яичной скорлупой, провалились в рот. Ерофей
подхватил напарника и вместе с ним опрокинулся в воду, схватился за брусья,
прибитые к берегу течением.
вверх по течению. Родион, прикрыв одной рукой рот, другой помогал заводить
напарнику плотик вверх по течению.
поверженных страхом людей, которых все прибивало и прибивало не к тому
берегу, где им положено быть. Отсекающий огонь новых, крупнокалиберных
пулеметов "дэшэка", которых так не хватало на плацдарме, пенил воду в реке,
не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую
уверенность, твердый порядок, и тот молокосос, что еще недавно боялся
стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону,
замахнулся на них пистолетом:
булькаясь, дрожа от холода, волокли связанные бревешки по воде и сами
волоклись за плотиком. Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и
недостатком боеприпаса, всадил -- на всякий случай -- очередь им вослед.
Пули выбили из брусьев белую щепу, стряхнули в воду еще одного, из тьмы
наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило
уже человеческое мясо.
пусть знают, что сделают с теми подонками и трусами, которые спутают правый
берег с левым.
День третий
навесом яра, возле умолкшей, пустынной реки и под редкие, уже ленивые
пулеметные очереди, под сонное, почти умиротворяющее гудение ночных
самолетов, на миг раздирающих тьму, под звуки мин и снарядов, почти
придирчиво воющих вверху, рассказал совершенно диковинную, можно сказать,
фантастическую историю, редкую даже для нашей, насыщенной исключительными
событиями, действительности.
рассекло надвое икру правой ноги. Раненых и убитых там было много. Феликса
на передовой наскоро перебинтовали, прихватив бинтом клок грязной обмотки. К
лечебному месту определялся он долго, ехал, ехал -- везде подбинтовывают, но
не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько бинтов намотали, что нога
сделалась будто бревно, рана в заглушье бинтов от клочка грязной обмотки
загнила, раненому сделалось тошно от температуры и в то же время зазнобило
его. Но, в общем-то, все, слава Богу, обошлось. В войну и не таких
выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в тульском
эвакогоспитале. Там же, в Туле, направили на пересыльный пункт, оттудова
недавних ранбольных, допризывников и разный приблудный народ, которого здесь






 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий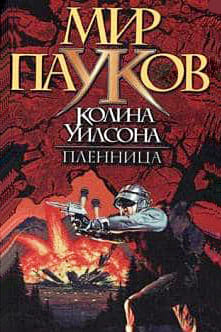 Прозоров Александр
Прозоров Александр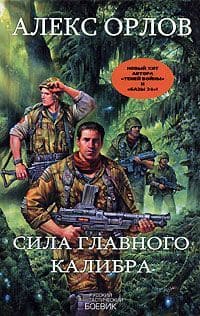 Орлов Алекс
Орлов Алекс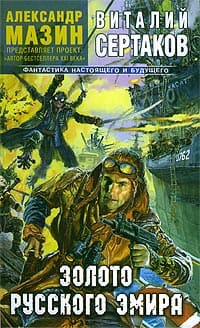 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий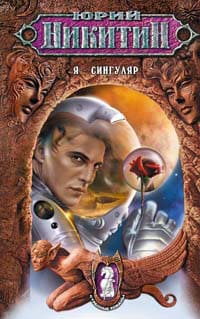 Никитин Юрий
Никитин Юрий Маккарти Кормак
Маккарти Кормак