Константину глухие, сдавленные звуки, похожие на проглатываемый стон. Он
будто давился, расшнуровывая ботинки, все не разгибаясь, и Константин, в
первый раз увидев его таким, заторопился с неистовой энергией:
великолепная штука. По себе знаю. Надирался как змей. Обдает свежестью - и
ты как огурчик. Ко всем дьяволам философию! Истина в душе, за это ручаюсь!
Где эти тапочки? Сейчас ты узнаешь, что человечество недаром выдумало душ!
сейчас... подожди.
Пошли! Жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация.
кухне белье, пахнущее сыростью, сказал:
по груди: сразу озябнув, Сергей подставил лицо, крепко зажмурясь,
навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену,
перехватывающем дыхание, вспомнил, трезвея, о тех солнечно-морозных утрах
зимы сорок пятого года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в
эту воду, в эту ванну - ни с чем не сравнимое чудо человечества, как тогда
счастливо казалось ему.
приоткрыл дверь, подал ему мохнатое полотенце, затем крикнул из кухни: - Я
сейчас крепкий чай сочиню. И все будет хенде хох!
как на степном полустанке, и движений Константина на кухне не было слышно.
чернело звездное небо за близкими силуэтами лип, и слабо доносились
далекие паровозные гудки с московских вокзалов.
застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, на тоненько дребезжащую
крышечку.
спички. - Сергей ногой подволок к столу табуретку. - Ася меня ждала?
уже не удивить.
кипяток, проговорил непрочным голосом:
решимостью сказал:
ее. И вообще... это так.
грудь под полосатой ковбойкой, и договорил с длительным выдохом:
еще в армии.
Константина. - То есть как любишь? В каком смысле?
что, наверное, когда-нибудь вечером зайдет за Асей совсем незнакомый
парень, лица которого он не мог представить, ее однокурсник, наделенный
теми качествами, которые могли бы понравиться ему; он всегда был спокоен
за нее, ибо была непоколебимая уверенность, что не мягкий отец, а он
спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить его
сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в
семье. И то, что Константин нежданно открылся ему, вызвало в нем не
удивление, а чувство чего-то неестественного, не имевшего права быть. Он
знал Константина со всеми его слабостями, и если бы он сказал сейчас о
каком-то очередном увлечении своем, только не о любви к Асе, это было бы
вполне естественно и закономерно.
горло. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь, и воды, и черт те что, а Ася
святая. Ей нужен парень... ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты
говоришь это? Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться,
Костька. У меня что-то часто стала болеть башка. Я устал.
замкнутым лицом; смуглые пятна проступили на скулах, в темно-карих глазах
пригасло обычное выражение иронически настроенного ко всему человека, раз
и навсегда когда-то осознавшего зыбкость истины.
Сергею, голос его не дрогнул. - Кстати, тебе... звонили... Звонила Нина. В
десять вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил. Возьми
чайник.
тяжесть и мгновенно перебросил чайник в другую руку.
Завтра утром - тю-тю! - уезжаю на практику. Под Тулу, - сказал Константин.
- А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так?
Откровенно...
если откровенно... ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а
не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня. Так?
ничему не научился. А жаль.
ощупью нашел выключатель, зажег свет; и его окружил давно привычный ему
хаос холостяцкой обстановки - пыльные книги в громоздком шкафу,
иллюстрированные, затрепанные донельзя журналы, повсюду раскиданные на
стульях, порожние бутылки из-под пива на подоконнике, кинофотографии Дины
Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками;
на тумбочке - портативная с пластинками мировой "джазяги" радиола, по
случаю купленная в сорок пятом году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но
чего-то не хватало ему. Он не находил себе места. Ему не хотелось спать.
вытянулся в нем - пластинка раскручивалась, шипела, возникли точно
отдаленные пространством звуки джаза, - и он, слушая хрипловатый низкий
женский голос и потирая лицо, горло, морщась, напевал шепотом: "О Сан-Луи,
ты горишь вдали..."
аптечке отца, и сон тяжело потянул его во тьму. Он чувствовал, как
засыпал, и чувствовал, как нарастает что-то неспокойное, смутное, то
приближаясь, то удаляясь, - как человек, как летящее тело между небом и
землей. Но это не было ни человеком, ни телом. Что это было, он не мог
понять.
видел - под луной блестела каменная площадь. И он вбежал под арку -
преследовал его, настигал, бил его в спину грохот подкованных сапог.
мертвенных улицах. Только стучали, приближаясь, железные подковы сапог,
отдаваясь тоской в сердце.
светящееся под луной отверстие выхода. Но мысль о том, что он совсем один
в городе, что у него нет оружия, кидала его как сумасшедшего из стороны в
сторону. Щупая пустую кобуру, выбившись из сил, он домчался до выхода. Как
спасение, как передышка, открылся этот выход... Четыре силуэта вышли
навстречу ему, загородив проход из туннеля. Он не видел их лиц, не видел
их мундиров, но знал - впереди немцы. И в то же время донесся металлически
ударяющий цокот подков за спиной. И он понял, что пропал, что его окружили
и нет выхода из смертельной ловушки - это конец, его предали...
душное, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь
из тисков, он осознавал, что это последнее в его жизни, что он погибнет
сейчас, и почему-то особенно ясно успел заметить за спинами людей в черном
чье-то очень знакомое огромное лицо с усиками, но кто это был - никак не
мог вспомнить. И вдруг узнал это лицо по крутому подбородку, по
улыбающимся губам и, узнав, крикнул, задохнувшись: "Уваров? Уваров!.. Где,
сволочь, твой партбилет? Сжег?" - И от удара, падая под сапоги, уловил
радостный знакомый рев: "В сердце! Бейте его в сердце! В сердце!.. Он
сейчас умрет!"
душно и нацеленно - прямо в зрачки ему. Он лежал, боясь оторвать взгляд от
нее, боясь пошевелиться, скачущими рывками билось сердце; казалось - оно



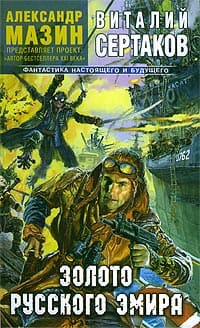


 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна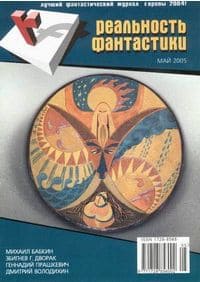 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Акунин Борис
Акунин Борис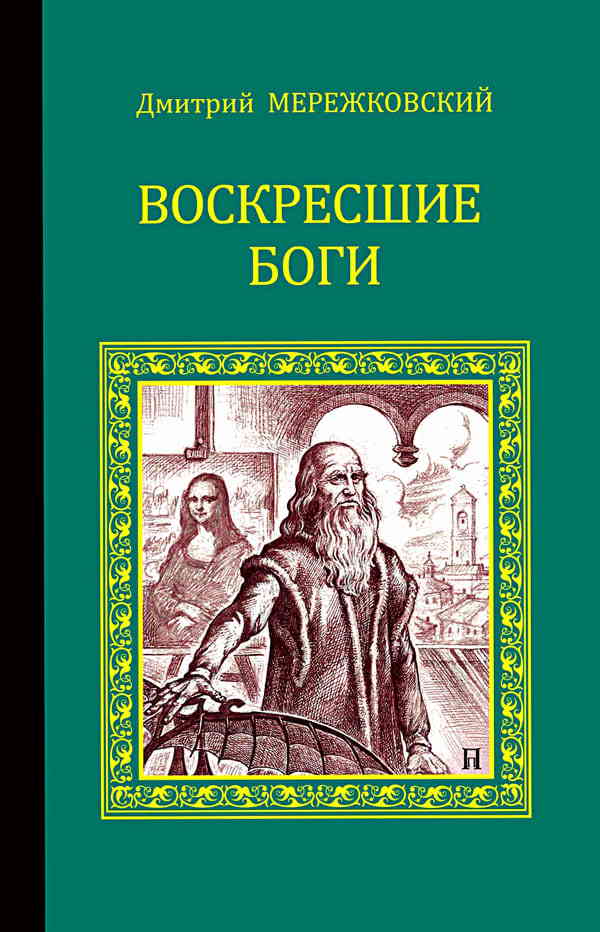 Мережковский Дмитрий
Мережковский Дмитрий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий