волосы пригладил преувеличенно оживленно. - У нас горькая - страсть редко,
по причине далекого движения железной дороги и так и далее. Больше бабы на
самогон жмут без всяких зазрений домашних условий. Со знакомством!
хлеба, передергивая бодро и живо локтями.
узловатые руки, на вилку, которую он держал неумело, но уверенно, и его
поразила мысль, что, видимо, человек этот - надзиратель, что Николай
Григорьевич находится под его охраной, и, сразу представив это, с усилием
спросил:
пачки сигарету аккуратно. - Сладкие бывают, да-а... (Константин чиркнул
зажигалкой.) Эх, зажигалка у вас? Очень, можно сказать, культурная штука.
А бензин как?
Михаилом Никифоровичем и, перехватив его взгляд, добавил: - Вы не бойтесь,
я не трепач. Просто интересно. Ну, много там у вас... заключенных? В
общем, если не хотите, не отвечайте. Выпьем лучше. Вот, за вашу доброту. -
И он прикрыл ладонью письмо на столе.
подбородок, вдыхал дым сигареты, прозрачные синенькие глаза казались
блестками. - А вид у тебя ученый... Очки на нос - ну что профессор... - Он
тоненько засмеялся. - Вредный народ-то, однако, профессора, знаешь то или
нет, Константин Владимыч? Ай тут ничего не знают? С виду соплей перешибить
можно, а все против, откровенно сказать, трудового народа. Вот что я тебе
скажу, ежели ты простой шофер и должен понимать международную обстановку.
Враги народу...
заговорил строго:
значит. Читают нам лекции, объясняют все хорошо... А они, профессора,
прекрасно образованные, против гениального вождя товарища Сталина. Я что
тебе скажу, послушай только, - внезапно поднял голос Михаил Никифорович. -
Убить ведь хотят, каждый год их ловят. То там шайка какая, то тут.
Фашистов развелось в городах-то ваших - плюнуть негде! И везут их, и
везут, день и ночь. Местов уже нет, а их везут... Ни сна, ни покоя. Чтоб
они сдохли! Вот что я тебе скажу, Константин Владимыч, человек хороший...
Каторжная у нас работа! Не жизнь, нет, не жизнь. Убег бы, да куда?
лоб, лицо; его синенькие глаза смотрели не улыбчиво, а искательно, вроде
бы сочувствия просили у Константина. Узел галстука нелепо сполз,
расстегнутый воротник рубашки обнажил темную хрящеватую шею.
Ну, чего это я болтаю, а? Ну, чего болтаю, дурья голова! - залившись
тонким смешком и мотая волосами над лбом, крикнул Михаил Никифорович. -
Ну, скажи на милость - интерес какой! Язык болтает, голова не соображает,
горькая, видать, в темечко шибанула! Никакого тут интереса нет, Константин
Владимыч! Совсем жизнь наша неинтересная!..
и смеясь. - Не жизнь у нас, нет, Константин Владимыч! Звери мы, что ли? А?
Ведь не звери мы!.. Вы мои мысли уважаете? Или непонятное говорю?
пьяно замутненные глаза его, короткие серые ресницы заморгали, и
Константин в эту минуту с ощущением острого комка в горле невольно
отдернул руку. И тотчас же взял свою рюмку и выпил двумя глотками водку,
проталкивая ею этот комок в горле, спросил:
хлеба, затем высморкался в носовой платок, зажимая по очереди ноздри.
можно сказать, с пониманием. - Тщательно вытер покрасневший носик,
затолкал платок в карман. - Когда на даче, то есть, по-вашему сказать, в
карцере, сидел, я ему кусок хлеба, а он мне: "Спасибо, вы же от себя
отрываете". Как человеку. Мы обхождение понимаем, не звери, Константин
Владимыч. Какого заядлого когда и постращаешь, чтобы, значит, не особенно.
А кому и скажешь: мол, понимай отношение справедливости жизни: кормят
тебя, вражину, поят, одевают - чего же тебе, шляпы на голову не хватает,
такой-сякой! А к вашему тестю уважение есть, уважают его: сурьезный,
молчит все.
ответил Михаил Никифорович. - Вернулся - хорошо работал, не отдыхал даже.
Об этом, так сказать, сомлеваться нельзя. Месяц назад повел его к пункту,
чего-то у него закололо. Фершел, тоже человек сознательный, постукал,
говорит: "Ничего здоровье..."
расслабленности сошло с его влажного лица, покрытого красными пятнами. Он
обеспокоенно глянул на будильник, отстукивающий на тумбочке, задвигал
плечами и локтями, точно бежать собрался, крикнул высоким голосом:
голова! Опоздаю я в магазины - баба начисто со света сживет! - И
захихикал, все двигаясь на диване. - В универмаг мне надо в ваш! Бе-еда!
Просьба у меня к вам, Константин Владимыч, вот, значит, совет ваш... По
секрету сказать, никакая командировка у меня сурьезная, а в Москву за
одеждой и так далее, двое суток мне дали...
развернул перед собой на скатерти озабоченно.
детишкам - ботиночки, пальтишки, брату - сапоги хромовые. Из продуктов:
сахару - пять килограммов, чаю - восемь пачек, колбасы - два килограмма,
конфет - один килограмм. Где все это закупить можно, Константин Владимыч?
Совет прошу. На два дня я из дому только!
об этом почти необъяснимом присутствии Михаила Никифоровича здесь, в доме,
о длинных темных разговорах его, вызывающих тупую боль в сердце; и не
отпускало его едкое ощущение удушья.
разговор был... Ночку мне только и переночевать, ежели вы... - проговорил
с заминкой Михаил Никифорович, виноватой улыбкой натягивая подбородок, и
Константин прервал его:
испугом пробежав первую строчку, молча ушла в другую комнату, закрылась на
ключ и там затихла.
прислушиваясь, сбоку поглядывал на дверь и машинально подливал водку
Михаилу Никифоровичу - после магазинов ужинали в десятом часу вечера.
которую пил безотказно, устроясь на диване среди разложенных вещей,
пакетов с сахаром, кульков и свертков, вытирал платком осоловелое лицо,
возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой.
кашлем, Михаил Никифорович. - И женщины, жены то есть. А разве они
виноваты? Скажем, отец супротив власти делов наворотил, а они слезьми
умываются.
Константину и жестокими, как удары, словами объяснить, рассказать о
честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым; и
когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его.
"Быков, - думал он, плохо слыша Михаила Никифоровича. - И Ася, и Сергей, и
Николай Григорьевич, и я - все Быков, все от него... И это письмо, и
надзиратель. И Николай Григорьевич - враг народа. Что докажешь! Да
Быков... Нет, и от него, и не от него. Очная ставка - знали, кого
вызывали! Ах, сволочь! Что же это происходит? Зачем? Очная ставка? И
поверили ему, хотели ему поверить!.."
серым цветом звучал его голос. - К эшелонам повели колонну, несколько
сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалеча от товарного
вокзала бабы откуда ни возьмись - из дворов, из закоулков, из-за углов к
колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликает. Они, значит, к
тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум,
плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут... Конвойные их выталкивают,
перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают... И -
прикладами. Командуют колонне: "Бегом, так-распротак!" Побежала колонна,
баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух
пустил, другой, вся колонна ревмя ревет - бабы довели, не выдержали
мужчины, значит. Кричат: "За что женщин? Дайте с женами проститься!" А


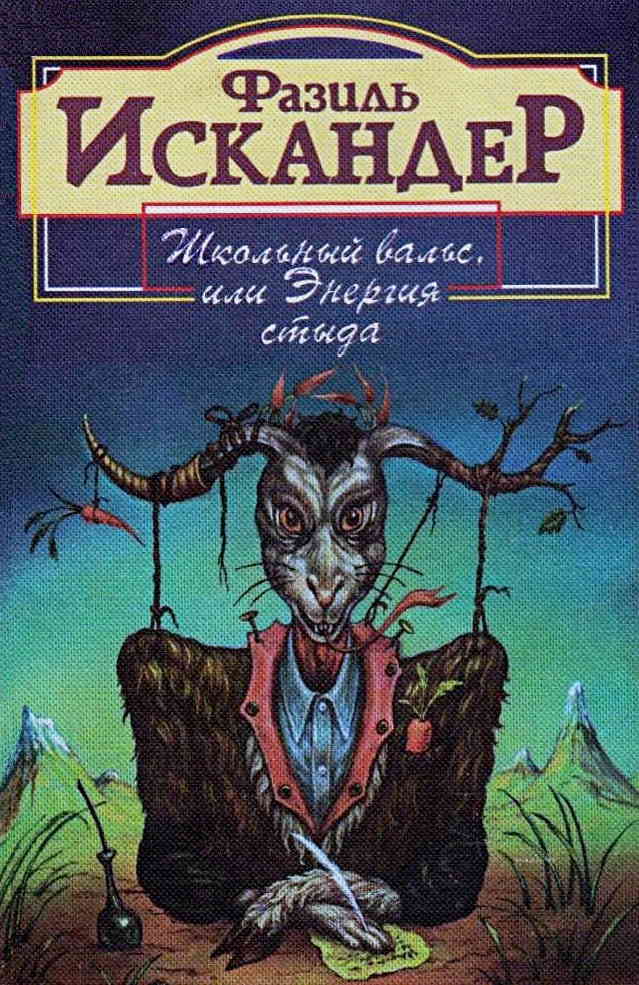
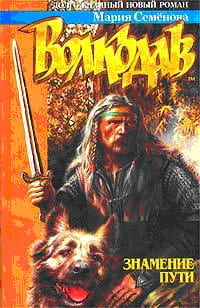


 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия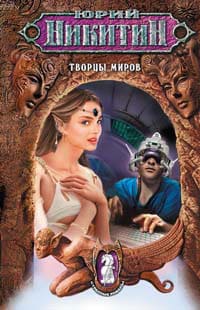 Никитин Юрий
Никитин Юрий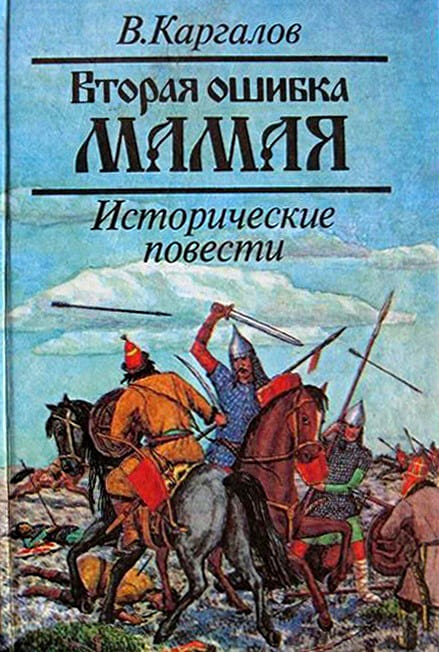 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис