Грин Грэм
Конец одного романа
Книга первая
которого смотрим вперед или назад. Я говорю "мы" с не должной гордостью
писателя, которого (если замечали) хвалили за мастерство; а выбрал я, своей
волей выбрал темный январский вечер 1946 года, Коммон, Генри Майлза в
потоках дождя -- или образы эти меня выбрали? По законам моего ремесла
прилично, правильно начать отсюда, но если бы я верил хоть в какого-то бога,
я бы поверил и в руку, которая тронула меня за локоть, и в голос, сказавший:
"Заговори с ним, он тебя не видит".
сильное слово для нас, людей, я ненавидел и его, и жену его Сару. Наверное,
после этого вечера он возненавидел меня, как ненавидел иногда жену и того,
другого, в которого мы, на наше счастье, не верили. Так что это рассказ
скорее о ненависти, чем о любви, и если я похвалю Генри или Сару, можете мне
верить -- я пишу наперекор себе, ибо горжусь как писатель, что предпочитаю
посильную правду даже своей непосильной ненависти.
конце концов, у него была Сара (так я думал). Мне удобства и уют неприятны
-- одинокому легче, когда ему не слишком хорошо. Мне было чересчур уютно
даже в моей комнате на плохой, южной стороне, среди чужой, старой мебели; и
я прикинул: не прогуляться ли под дождем, не выпить ли? Наш маленький холл
был полон чьих-то шляп, пальто, и я по ошибке взял чужой зонтик -- к жильцу
со второго этажа пришли гости. Потом я закрыл за собой стеклянную дверь и
осторожно спустился по лестнице; она пострадала от бомбы в 1944 году, и ее
все не чинили. По некоторым причинам я помнил, что в ту бомбежку толстое,
безобразное викторианское стекло выдержало удар, как выдержали бы наши деды.
макинтош; и тут я увидел Генри. Мне было так легко пройти мимо -- он не
захватил зонтика и буквально ослеп от дождя. Черные, голые деревья защитить
не могли, они торчали как сломанные трубы, и вода лилась прямо на его темную
шляпу, на строгое чиновничье пальто. Если бы я прошел мимо, он бы меня не
заметил, и уж точно бы не заметил, отойди я фута на два; но я сказал:
засветились, словно мы давно и близко дружим.
должен ненавидеть, не я его.
хочется поддеть -- наверное, это те, кто наделен неведомыми нам
достоинствами.
шляпу, которую неожиданный шквал чуть не унес на северную сторону.
обрадовался, если бы она оказалась несчастной, больной, при смерти. Тогда я
думал, что от ее страданий мне будет легче, смерть ее меня освободит. Если
бы она умерла, думал я, я мог бы даже полюбить бедного, глупого Генри.
он отвечал так другим, а я, я один знал, где она.
со мной. Раньше мы пили только дома, у него.
меня по фамилии, словно у меня нет имени, хотя мои изысканные родители дали
мне вульгарное имя "Морис".
полтора года!" От северной стороны до южной -- меньше пятисот ярдов. Неужели
ни разу не спросил: "Сара, как там Бендрикс? Может, позовем его?" -- а
ответы не показались ему странными, уклончивыми, подозрительными? Я
провалился куда-то, словно камень -- в воду. Наверное, всплески волны
огорчали Сару не больше недели, ну с месяц, но Генри не видел ничего. Я
ненавидел его слепоту и раньше, когда ею пользовался,-- я знал, что и другие
могут воспользоваться ею.
а под оранжево-розовыми остатками продажного веселья молодая хозяйка,
навалившись грудью на стойку, презрительно разглядывала посетителей.
огляделся, где бы повесить шляпу. Мне показалось, что он не бывал в баре,
это -- не кафе, где он завтракал с коллегами.
ним. Вряд ли я познакомился бы с Генри и с Сарой, если бы не начал в 1939
году роман о крупном чиновнике. Как-то, споря с Уолтером Безан-гом. Генри
Джеймс сказал, что настоящей писательнице достаточно пройти мимо казармы,
чтобы написать роман о гвардейцах; я же думаю, что рано или поздно ей надо с
гвардейцем переспать. Конечно, с Генри я не спал, но сделал, что мог. В
первый же вечер, когда я повел Сару в ресторан, я твердо и холодно решил
расспросить как следует жену чиновника. Она этого не знала; она думала, что
я искренне интересуюсь ее жизнью, и, наверное, из-за этого я ей понравился.
Я спрашивал, когда Генри завтракает, как ездит на службу -- в метро, в
автобусе, в такси? -- приносит ли домой работу, есть ли у него портфель с
гербом. Так мы подружились -- она была рада, что кто-то всерьез о [носится к
Генри. Он человек значительный, как значителен слон,-- он крупный чиновник;
но есть значительность, к которой очень трудно относиться всерьез. Служил он
в министерстве социального обеспечения, которое называли министерством
домашнего очага, и позже я смеялся над этим в те минуты, когда по злобе
хватаешь любое оружие. Я нарочно сказал Саре, что спрашивал про Генри только
для книги, чтобы его описать, а персонаж -- нелепый, комический. Тогда и
разлюбила она мой роман. Она была на редкость предана мужу, ничего не
скажешь, и в темные часы, когда бес овладевал моим разумом, я злился на
безобидного Генри, выдумывал сцены, которые стыдно записать. Однажды Сара
провела у меня целую ночь (я ждал этого, как ждет писатель последнего слова
книги), и моя случайная фраза испортила то, что иногда казалось нам полным
счастьем. Часа в два я уснул, проснулся в три и разбудил Сару, положив ей
руку на плечо. Наверное, я хотел все уладить, пока моя жертва не повернула
ко мне прелестное заспанное лицо. Она глядела доверчиво, она забыла ссору, и
даже это разозлило меня. Какие мы, люди, плохие, а еще говорят, что нас
создал Бог! Мне трудно представить Бога, который не прост, как уравнение, не
ясен, как воздух. Я сказал ей: "Лежу, думаю о пятой главе. Жует Генри кофе
перед важным заседанием?" Она покачала головой и тихо заплакала, а я,
конечно, сделал вид, что удивляюсь -- -- что тут такого, я думаю о моем
герое, Генри обидеть не хотел, самые симпатичные люди жуют кофейные зерна, и
так далее. Она выплакалась и уснула. Ока вообще крепко спала, и даже на это
я сердился.
спросил:
"Чтоб ты лопнул со своей грудастой бабой!", "Доброй вам гонореи, счастливого
сифилиса",-- и поскорей вернулся к веселому серпантину. Иногда я слишком
ясно вижу себя в других, и беспокоюсь, и очень хочу поверить в святость, в
высокую добродетель.
думал, что такому можно научиться в министерстве. Вот и снова я пишу с
горечью. Какая скучная, мертвая эта горечь! Если бы я мог, я бы писал с
любовью, но если бы я умел писать с любовью, я был бы другим и любви не
потерял. Но вдруг над блестящей плиткой столика что-то коснулось меня -- не
любовь, просто жалость к несчастному; и я сказал Генри:


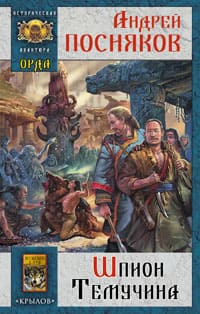
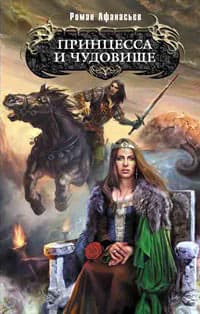

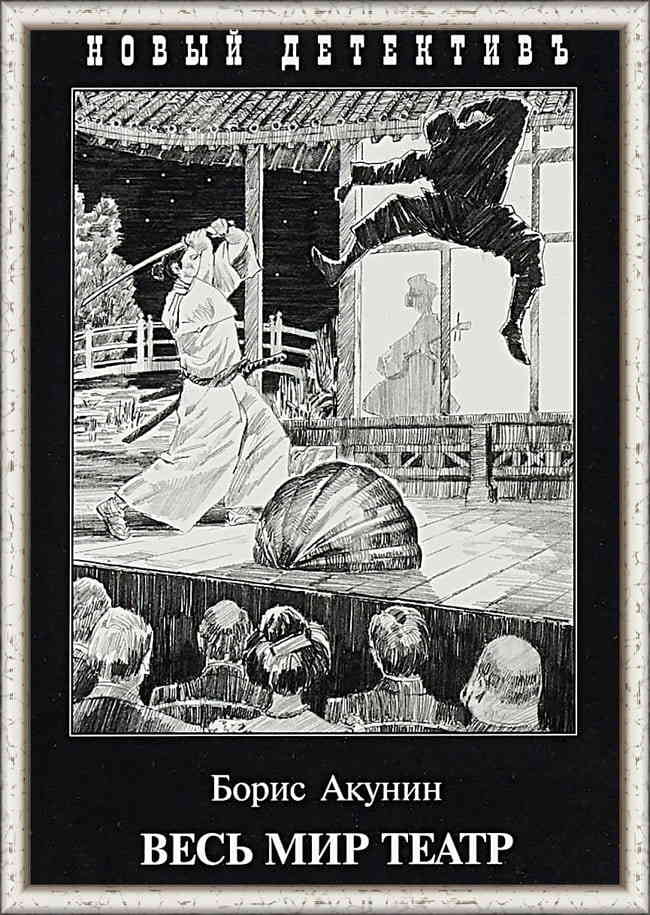
 Флинт Эрик
Флинт Эрик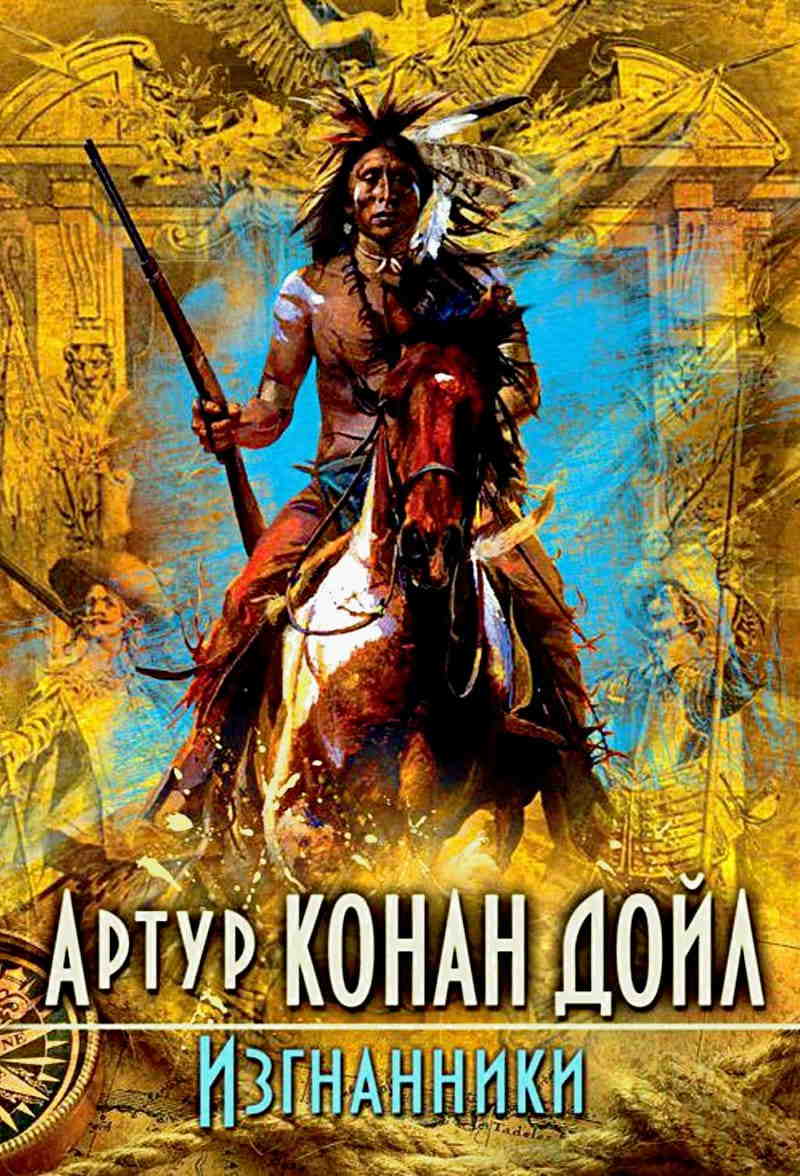 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур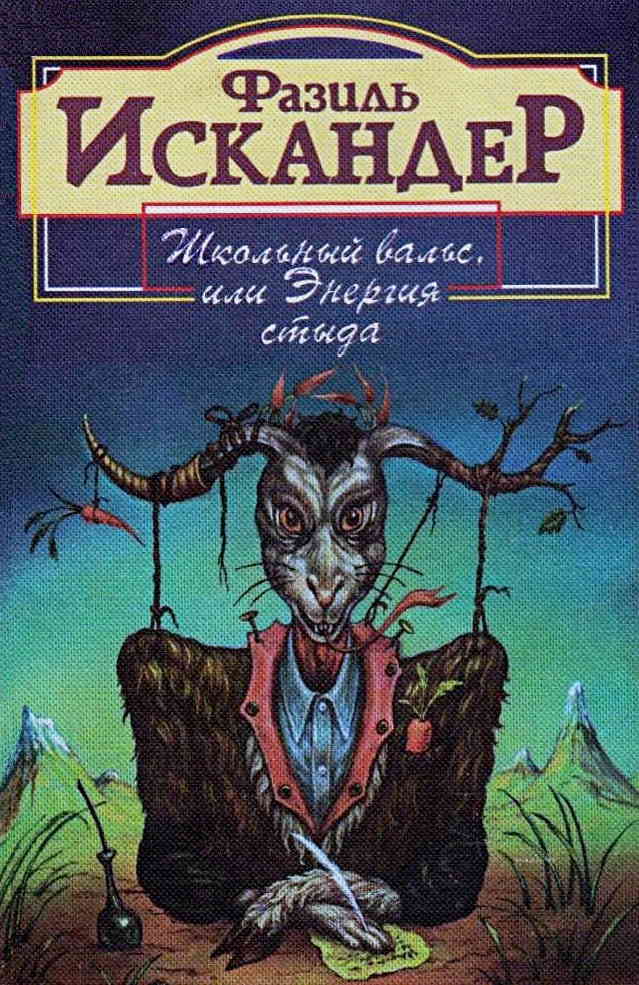 Фазиль Искандер
Фазиль Искандер Прозоров Александр
Прозоров Александр Василенко Иван
Василенко Иван Прозоров Александр
Прозоров Александр