прикидывала вот так? Звоня у ее дверей, я был ей врагом или сыщиком,
следящим за ее словами, как через несколько лет следили за ней самой Паркис
и его сын. Тут дверь открылась, доверие вернулось.
вместе. Она отнесла Генри поднос (он сидел в зеленом халате, подложив под
спину две подушки), и тут же, на твердом полу, не закрыв двери, мы
Иоанна (Хуан де ля Крус). (Здесь и далее -- прим. перев.)
Генри не услышал странного, печального, сердитого крика.
увижу русых волос, разлившихся по полу, капелек пота на лбу, не услышу
тяжелого дыхания, будто она бежала наперегонки, победила и не может
отдышаться.
сандвичи стояли на столе, пустые бокалы. Она прошептала: "Пошел вниз..." --
села в кресло, взяла на колени тарелку.
ступенька. Собственный голос показался мне фальшивым, когда я громко сказал:
комнату. Он нес грелку в сером фланелевом чехле.
одномерным голосом и ушел, прижимая грелку в чехле.
ей стало не по себе, но она умела, как никто, прогонять угрызения совести. В
отличие от всех нас, она не знала вины. Она считала: что сделано, то
сделано, чего же угрызаться? Если бы Генри нас застал, она бы решила, что
ему не с чего сердиться. Говорят, католики после исповеди освобождаются от
греха -- что ж, в этом смысле она была истинной католичкой, хотя верила в
Бога не больше, чем я. Нет, так я думал тогда, теперь -- не знаю.
меня нет карты. Иногда я думаю, пишу ли я хоть капельку правды? В тот день я
беспредельно доверял ей, когда она вдруг сказала мне, хоть я ни о чем не
спрашивал: "Я никогда и никого не любила так, как тебя",-- словно, сидя в
кресле, держа недоеденный сандвич, она отдалась мне вся, целиком, как пять
минут назад на полу. Кто из нас решится говорить вот так, без оглядки? Мы
помним, предвидим, колеблемся. Она сомнений не знала. Ей было важно одно --
что происходит сейчас. Говорят, вечность -- не бесконечное время, но
отсутствие времени, и мне иногда кажется, что, забывая себя, Сара касалась
этой математической точки, у которой нет измерений, нет протяженности. Что
значило время -- все прошлое, все мужчины, которых она время от времени (вот
оно, снова!) знала, или будущее, когда она могла бы точно с той же
правдивостью сказать то же самое? Я ответил, что и я так люблю, и солгал,
ибо я никогда не забываю о времени. Для меня нет настоящего -- оно либо в
прошлом году, либо на будущей неделе.
времени есть противоречия, у математической точки их нет. Она любила гораздо
лучше, чем я,-- ведь я не мог отгородить настоящее, я всегда помнил, всегда
боялся. Даже в самый миг любви я, словно сыщик, собирал улики еще не
совершенных преступлений, и через четыре с лишним года, когда я открыл
письмо Паркиса, память о них умножила мою скорбь.
завязали знакомство со служанкой из дома 17, что ускорит наши изыскания, т.
к. я теперь могу заглянуть в записную книжку особы N, а также исследовать
содержимое мусорной корзины, из которой мне удалось изъять ценную улику
(прошу вернуть с замечаниями). Особа N несколько лет ведет дневник, но
служанка, которую я в целях осторожности буду впредь называть "наш друг", не
смогла добыть его, т. к. особа N запирает его в стол, что само по себе
подозрительно. Кроме того, предполагаю, что особа N не всегда делает то, что
значится в записной книжке, пользуясь ею для отвода глаз, хотя и не желал бы
искажать догадками расследование, в котором прежде всего требуется истинная
правда".
оружие. Иногда я очень хотел сунуть в рот мистеру Паркису эти дурацкие,
уклончивые донесения, и непременно -- при его мальчике. Все было так,
словно, пытаясь поймать Сару (зачем? чтобы ранить Генри, чтобы ранить
себя?), я подпустил шута к нашей с нею связи. Связи... И это слово -- из его
писем. Написал же он как-то: "Хотя у меня нет доказательств связи с лицом,
проживающим на Седар-роуд, 16, особа N явно проявляет склонность к обману".
Но это было потом. Из этого, первого письма я узнал только, что Сара пошла
не к зубному врачу и не в парикмахерскую, а проследить, где же она была, не
удалось. И тут, перевернув листок (лиловые буквы на дешевой бумаге), я
увидел чистый и смелый почерк Сары. Я не думал, что сразу узнаю его через
два года без малого.
"А" и приписал: "Важно на случай суда, прошу вернуть". Он вынул это из
корзины и расправил бережно, как любовник. Конечно, обращалась она к
любовнику: "Мне незачем тебе писать или говорить с тобой, ты все знаешь
раньше, чем я скажу, но когда любишь, хочешь говорить и писать, как всегда,
как прежде. Я еще только начинаю любить, но мне надо отдать все и всех,
кроме тебя, и мешают мне только страх и привычка. Дорогой мой..." И все.
Записка вызывающе глядела на меня, а я думал, как же это я не запомнил
каждую букву, каждый знак того, что она писала мне. Если бы ее записки были
такими, я бы их хранил, но она именно боялась, что я сохраню их, и писала
очень осторожно, чтобы я читал "между строк". А эта любовь сломала клетку
строк, не могла скрываться. Помню, у нас было кодовое слово -- "лук".
Означало оно все то, что связывало нас. Любовь стала луком, даже соитие было
луком, "...надо отдать все и всех, кроме тебя" -- и лук, с ненавистью
подумал я. Лук, вот что было в мое время.
проснулся ночью, мог повторить все, с начала до конца, а слово "отдать"
вызвало к жизни целые картины. Спать я не мог, лежал в темноте, образы
сменялись: волосы на паркете, топкая лужайка за городом, в стороне от
дороги, где изморозь сверкала под ее головой, а в самый последний момент
появился трактор, и тракторист даже не обернулся. Почему ненависть не
убивает страсти? Я бы все отдал, чтобы заснуть. Я бы вел себя как мальчишка,
если б думал, что это ее заменит. Но я уже искал замену, и это не помогло.
Генри, и к Саре, и к тому, кого Паркис так нелепо выслеживал. Теперь все в
прошлом, я ревную к Генри, только если очень уж живо воспоминание (были бы
мы женаты, нам бы хватило счастья на всю жизнь, с моей-то страстью, с ее
верностью!), а вот к сопернику ревную страшно. "Соперник"... Этому слову из
мелодрамы не выразить той мучительной радости, того доверия, того счастья,
которые выпали ему. Порой мне кажется, что он бы меня и не заметил, и я хочу
крикнуть: "Нет, я есть! Я тут! Что бы потом ни случилось, она любила меня".
значили для нее (разве что она подсознательно стремилась к тому содроганью,
которого не узнала с Генри). Любовникам она была верна, как мужу,-- и мне,
конечно, но даже это не утешало, а злило меня. Когда-то она смеялась над
моей злостью, не верила в мою искренность, как не верила в свою красоту, а я
злился, что она не ревнует меня ни к прошлому, ни к будущему. Я не верил,
что можно любить иначе, я измерял любовь ревностью, и получалось, что она
совсем меня не любит.
кончились действием -- глупым действием, оно не привело ни к чему, разве что
к тому сомнению, которое приходит, только я начну писать:
просто еще не научилась нормальным человеческим чувствам. Я злился, что она
не спорит.
тяжело, когда ты страдаешь. Если ты отчего-то счастлив, вот и хорошо, я не
против.
бесстрастный брак и то кажется лучше. Она искажает слова, отравляет доверие.
В осажденном городе каждый страж -- возможный предатель. Еще до Паркиса я
пытался следить за ней -- ловил на мелкой лжи, на уклончивости, которая
значила только, что она меня боится. Каждую ложь я раздувал в измену, даже в
самых ясных словах искал скрытый смысл. Я просто подумать не мог, что она --
с другим, и все время этого боялся, подозревая дурное в случайных движениях
руки.
невыносимой логичностью спросила она.
мужчиной. Это простая человеческая любовь. Спроси кого хочешь. Всякий так






 Шилова Юлия
Шилова Юлия Перумов Ник
Перумов Ник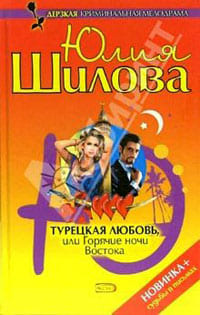 Шилова Юлия
Шилова Юлия Плотников Александр
Плотников Александр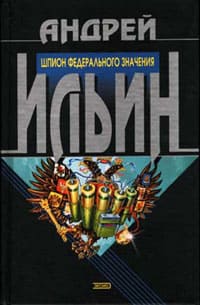 Ильин Андрей
Ильин Андрей Пехов Алексей
Пехов Алексей