которая только что была сравнена с ее подстрочником при разборе перевода
Бродского.
всякие прекрасные стихи. Они пленяют, они потрясают". Любимов называет
переводы Антокольского из Рембо одним из высочайших достижений русского
поэтического перевода в целом.
Вильгельм Левик, даже Владимир Микушевич свои сделанные в молодости
анапестом переводы из Бодлера с годами понемногу перерабатывали в
шестистопный ямб. К счастью, в переводе Антокольского нет придуманного
Бродским "выворачивания" рифмовки Рембо -- неизвестно зачем там, где первой
стояла женская рифма, второй -- мужская, Бродский сделал наоборот. А о
переводе Антокольского необходимо помнить тем, кто выбирает сходный ключ в
новых переводах (не рассматриваемый здесь перевод Е. Головина, к примеру) --
хуже быть не должно.
Мартынов писал, обращаясь к тем, кого переводит: "Пусть созданное вами
гениально, по-своему я все переведу", и дальше: "Любой из нас имеет
основанье добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодованье, в
чужое тленье своего огня". Точка зрения субъективна, но возможна, мало ли
известно нам примеров, когда перевод, сделанный сравнительно свободно,
получает в литературе равные права гражданства (наряду с оригинальными
стихами) -- та же "Хандра" Верлена в переводе Пастернака. Но такой перевод
обычно бывает неудобно печатать в тех книгах, где оригинал и русское
переложение печатаются параллельно. Именно перевод Мартынова был опубликован
впервые именно так*. И выглядит он более чем странно.
на совести Мартынова, а не Рембо. Во второй строфе мы находим (в оригинале)
следующее: "...(везущих) фламандское зерно или английский хлопок". Мартынов
передает это место так: "Английский хлопок вез и груз фламандской ржи". Сеют
ли во Фландрии рожь, ввозят ли ее туда? Только этот вопрос я рискнул задать
Мартынову во время нашего разговора по поводу этого перевода -- еще до его
публикации, в 1975 году: поэт ответил мне, что ему все равно. Он был прав,
конечно, как поэт, Но, увы, в следующей строке мы узнаем, что "бурлацкий
вопль" сделал то-то и то-то, "рожь" становится на свое место -- возвращается
в Россию, где ее и вправду сеют в немалом количестве, где и бурлаки тоже
ходили по Волге*, читатель вспоминает, куда впадает Волга и начинает
подозревать, что все скитания "Пьяного корабля" имели место в Каспийском
море.
вторым", кончается в оригинале теми строфами, которые процитированы там
подстрочно ("отчленившиеся полуострова..." и т.д.). То, что передано нами
как "сумятицы", разными переводчиками передано по-разному: Лившиц так и
передает его как "сумятицу", Кудинов -- как "кутерьму", другие переводчики
дают более или менее описательные эквиваленты, что, конечно, никем не
запрещено. И лишь Мартынов дает здесь нечто невиданное:
дикое "тоху-во-боху", Словарно французское tohu-bohu (как и аналогичное ему
немецкое Tohuwabohu) означает "беспорядок, суматоха, сутолока, хаос,
неразбериха", этимологически же восходит к древнееврейскому тексту Библии, к
самым первым ее строчкам, где описывается состояние Вселенной до сотворения
мира -- "безвидна и пуста" (по русскому тексту Библии, на современном языке
точней бы сказать -- "пустота и пустыня", соответственно "тоху" и "боху"). В
русской речи это выражение практически неизвестно, звучит предельно вычурно
и режет слух; во французской же речи, как и в немецкой -- это обычное,
прижившееся выражение. Передача реалии оказалась мнимой, и перевод от
"земных тоху-во-боху" не выиграл.
и раньше, у Мартынова появлялся весьма опасный "тяжелый дрек" и другие
частности: это мелкие неправильности прочтения (отчасти, впрочем, взятые из
подстрочника А.Н. Гилярова от 1900-го года), из них, как из мозаики, сложен
этот перевод. Все перечислить немыслимо, остановимся лишь на отдельных
случаях. К примеру, в строфе 13-й со знаменитым образом гниющего Левиафана,
обращает на себя внимание странный образ: "И видел в оке бурь бельмастые
затишья..." Не сделай той же ошибки Антокольский -- неверного прочтения,
введенного Мартыновым, можно было бы и не заметить. Но у Антокольского, к
сожалению, было "Как таращит слепые белки океан..." Откуда это? Увы, вот
откуда. Во французском тексте мы находим здесь слово (неологизм)
"cataractant" -- "падающие водопадом". Антокольский, а поздней Мартынов
приняли водопад за катаракту, тяжелое глазное заболевание.
-- на третий слог, чем придал ему, говоря наиболее скромно, юмористическое
звучание, лишь подчеркнутое тем, что в соседней строке покойники "шли взад
пяткГє в меня на кубрике вздремнуть". А в строфе 20-й возникает и вовсе
фантастическая картина. Здесь придется нарушить общий принцип нашего обзора
и процитировать первые две строки в оригинале, иначе читатель может
усомниться в нашей добросовестности:
Скажем, в переводе В. Набокова это место прочитано так: "Я, дикою доской в
трескучих пятнах ярких / Бежавший средь морских изогнутых коньков...".
Мартынов же в своем переводе подарил русскому читателю следующее:
только не доводилось испытывать в своих горемычных скитаниях "Пьяному
кораблю", а вот бегать от тьмы гиппопотамов -- нет. "Тьма", кстати,
по-русски еще и числительное (десять тысяч), заимствованное из татарского,
но хорошо прижившееся. Читатель должен согласиться, что десять тысяч бегущих
по морю гиппопотамов -- зрелище очень страшное.
строфе у Рембо появляется "течный Бегемот" (или "гонный", если выражаться
точно зоотехнически). Вряд ли это написанное здесь с большой буквы слово
означает животное "гиппопотам", каковые, к слову сказать, в море не водятся,
предпочитают озера. Зато Бегемот -- имя демона, очень хорошо знакомое
русскому читателю по роману Булгакова. Кстати, именно от этого демона и
получил гиппопотам свое второе, во французском языке почти не употребляемое
название. Бегемота за животное приняли почти все (кроме эмигрантов, Набокова
и Тхоржевского, в чьих версиях библейское прочтение все-таки возможно),
Бродский так и вовсе заменил Бегемота слоном, -- но не Мартынов, верно
понявший его мифологическую природу: "Где с Бегемотом блуд толстяк Мальстром
творил..." Однако читателю очень трудно поверить, что этот Бегемот -- не
один из тех десяти тысяч, что бегали по морю в предыдущей строфе.
Мартынова -- именно за "необычность лексики" хвалил этот перевод Д. Самойлов
в печати -- не в пользу ему, а против него начинают работать подлинные
признаки поэтики Мартынова: "белобрысый ритм", "солнц мездра" и т.д. Лишь в
немногих строках Мартынов создал свое, оригинальное прочтение "Пьяного
корабля" -- то, что до него удалось Антокольскому и в совершенно иной
плоскости -- Набокову и Бенедикту Лившицу. Но перевод Мартынова не состоялся
в целом: все затоптали гиппопотамы, мчавшиеся "взад пяткГє".
"апорий" античного философа Зенона из Элеи гласит, что, сколь бы медленно ни
ползла черепаха, и сколь бы быстро ни бежал Ахилл -- он никогда не догонит
ее, ибо, чтобы ее догнать, он должен пройти сперва половину пути, потом
половину оставшегося и т.д. Словом, не догонит. Этот образ часто приходит на
ум, когда переводчик, стремясь к оригиналу, сперва приближается к нему
наполовину, потом -- на половину половины, короче, хочет быть поточнее. С
Бенедиктом Лившицем это отчасти произошло -- это случилось отчасти потому,
что в 1927 году ему довелось перевести книгу Ж.М. Карре "Жизнь и приключения
Жана-Артура Рембо, где "Пьяный корабль" цитировался отдельными строфами.
Полный перевод был выполнен Лившицем позднее и впервые увидел свет на
страницах ленинградского журнала "Звезда" (1935, No 2). Только Лившиц, --
впрочем, ранее него Набоков и, пожалуй, с бГільшим успехом -- первыми из
русских переводчиков попытались перевести "Пьяный корабль" по методу "Зенона
и черепахи" -- путем бесконечного приближения к тому, чего в переводе
принципиально нельзя достичь -- к полному сходству с оригиналом.



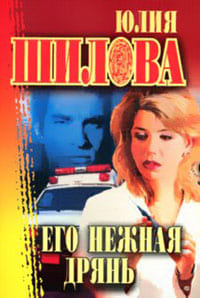


 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен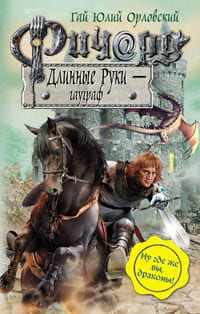 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий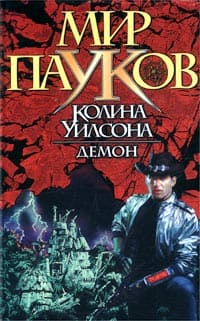 Прозоров Александр
Прозоров Александр Посняков Андрей
Посняков Андрей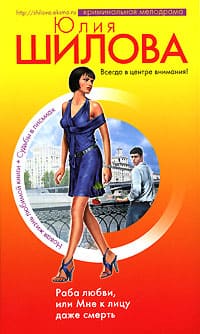 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия