рифмовку ("матросы -- альбатросов", ниже "поставлен -- бесславно",
"неуклюжий -- по клюву" им и т.д.). Мало этого -- его альбатросы для
разнообразия стали ленивыми. О таких произведениях принято говорить, что они
"к сожалению, сохранились". В будущем у Набокова была добротная работа над
Рембо и блестящая -- над Мюссе, а тут -- ну, ясно, что случилось "тут".
заехавшая в советское время, как будто завершается. Последующие переводы
принадлежат уже совершенно иной школе: они были сделаны в те годы, когда Д.
Бродский и А. Пиотровский намеренно революционизировали поэтов прежних
столетий, как того требовала их собственная эпоха: первый -- Рембо, второй
-- Катулла.
имажинизма, Шершеневич занимался поэтическим переводом до революции и после
нее, перелагал Рильке и Лилиенкрона, Парни и Шекспира ("Цимбелин"), но
любовь его к Бодлеру определенно не была взаимной. Мало
летать-то перестали.
также выполненный в 1930-е годы*
герой знаменитой, ходившей в списках баллады Георгия Шенгели "Замок
Альманах", впервые увидевшей свет лишь в антологии "Строфы века -- 2" (М.,
1998). Единственное, что можно сказать о переводе Пиралова -- что
"попутчиков" в ту пору -- даже в поэзии -- трудно было воспринимать просто
как "сопровождающих".
опубликованного в СССР после войны:
об этом поговорим в последней главе. Помимо этого необходимо констатировать,
что перевод продолжает ту же самую поэтическую линию, которую наметили
двенадцать предшественников Левика (то, что четыре перевода взяты из архива
-- роли не играет, хватит и оставшихся восьми).
переводов предпочесть, настолько они похожи. Вместе с тем именно сходство
переводов создает у читателя некое представление об оригинале, превращая все
переводе вместе и в сумме в некое подобие мысли о подлиннике. Как бы ни были
слабы переложения, но мощь оригинала такова, что и через скверные пересказы
Панова и Набокова просачиваются капли бодлеровской поэзии. Именно этот
"коллективный Альбатрос" склонил некоторых русских поэтов к интонационному
плагиату в их собственных стихах.
старыми ритмами" (ибо сам свято верил, что пишет "новыми"), Маяковского не
слушал и писал -- правда, его стихотворение называлось оригинально, не
"Альбатросы", а... "Матросы":
Зеленого Храма...."*, героя нашего исследования и самую малость Северянина,
что предстанет нашим глазам? Как ни странно, кое-что все же останется.
Главным в этом "кое-что" будет неслыханное орнитологическое открытие: будучи
альбатросом, оказывается, можно быть еще и орлиного племени...
"Пьяного корабля" Рембо, какие разные избираются дороги и какие получаются
различные результаты, -- и как трудно переводить простые, лишенные темных
мест стихи. Только через силу можно идти в их переводе и -- одним и тем же
путем. И читатель поверит. Поверит сильнее, чем всем бредовым версиям
"Пьяного корабля", где от оригинала не остается порою ни слова, а на русскую
поэзию повлияло (в отличие от Бодлера) разве что одно лишь название шедевра
Рембо. Доказательством того -- целая стая русских альбатросов...
чем сенсационную статью: "Цветаева и "Цветы зла", где полумиллионным тиражом
возвестил миру о нахождении неизвестной книги Марины Цветаевой -- "Цветы
зла" в переводе Адриана Ламбле, Париж, 1929. Отчего это книга Цветаевой?
Оттого, что Адриан Ламбле не мог быть никем, кроме Марины Цветаевой.
Доказательства? Их нет вовсе, но разве они нужны? Аргументы Карабутенко,
наподобие совпадения рифмы "лампы-эстампы" в переводах Ламбле 1929 года и
Цветаевой 1940 года ("Плавание"), ни малейшей критики не выдерживают: мы уже
видели, как оригинал сам "диктует" рифмы, а тут еще и рифменная пара просто
взята у Бодлера. Еще одним важнейшим доказательством своей теории считает И.
Карабутенко тот факт, что ни о каком Адриане Ламбле лично ему, И.
Карабутенко, ничего не известно...
литературы" за 1986 год (тираж, увы -- лишь 15 тысяч экземпляров)
убедительно доказала, основываясь на тех же цитатах из перевода Ламбле, а
главным образом -- на фактах биографии Цветаевой, что вся сенсация --
мыльный пузырь (впрочем, Н. Попова в No 8 "нового мира" за тот же год
пламенно поддержала Карабутенко). Но...
принадлежащую ему книгу уникальной. Однако не зря ей пришлось пользоваться в
своей статье лишь теми цитатами, которые милостиво привел в своем творении
Карабутенко, цитировавший -- видимо, на свой вкус -- строки получше.
Отчего-то она оставила без внимания поистине комичные совпадения текста
Ламбле с неоконченным переводом В. Левика, выполненным в 60-е -- 70-е годы
(почему тогда Левик -- не Ламбле?..) Ответ прост: специалисту по русской
поэзии (не только одной А. Саакянц) нет ни малейшего дела до истории
русского поэтического перевода.
уникальными их не считаю. "Цветы зла" в переводе Адриана Адриановича Ламбле,
выходца из Швейцарии, окончившего Санкт-петербургский университет, много лет
стоят у меня на полке. Сам Ламбле после революции жил в Париже, затем в
Пекине и Шанхае*, там заболел душевной болезнью, был взят под опеку
швейцарским консульством, вывезен в родные Альпы, где и умер около 1950
года. Еще в 1970 и 1971 годах на состоявшихся в Центральном Доме Литератора
в Москве обсуждении книги Бодлера, вышедшей в "Литературных памятниках", я
выражал сожаление, что составители ни в какой степени не использовали ни
перевод Ламбле, ни рукопись полного перевода Шершеневича, ни целый ряд
известных мне отдельных переводов. "А что, мы много хорошего упустили?"
Спросил меня тогда Н.И. Балашов. "Мало..." пришлось ответить мне, я готов
повторить это и теперь. Научная добросовестность и великая поэзия не всегда
идут по одному пути.






 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия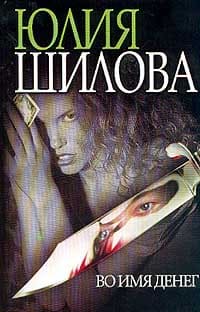 Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Посняков Андрей
Посняков Андрей