"Самоцветы", половину гонорара за которую добрый полковник в штатском,
пробивавший ее в печать, положил в свой карман. Вернулась Мария Вега лишь
для того, чтобы умереть в 1980 году в Ленинграде, в Доме ветеранов сцены,
некогда основанном ее крестной матерью, великой русской актрисой Савиной.
Стихи она писала до конца жизни, но ни эмиграция -- во всяком случае, та ее
часть, что делала "литературную погоду", -- ни советские читатели не
простили ей тех поэм, которыми оплатила она "серпастый и молоткастый":
поэтесса выпала из обеих литератур, о ней забыли и "там" и "тут" --
совершенно притом несправедливо.
покуда сам не устал, -- старая поэтесса готова была вести диалог дальше. Я,
пожалуй, не соглашусь со словами Валентины Синкевич: "Говорить с этой
женщиной нечего / но как пишет, как пишет она!" Говорить с Ириной
Владимировной было как раз очень интересно и полезно. С ее стороны это был
длинный, похоже, годами репетировавшийся монолог, в который нужно было лишь
подбрасывать хворостинки-вопросы. Притом смутить ее ничем было невозможно,
даже когда разговор не затрагивал ни одну -- по ахматовскому выражению -- из
имевшихся "готовых пластинок". Как бы то ни было -- Одоевцева вернулась,
ничем не поступившись, вернулась для того, чтобы в третий раз в жизни
пережить прилив настоящей славы. Но для этого понадобилось провести в
эмиграции две трети века, те самые семьдесят лет, в которые, как
предсказывал Саша Черный устами некоего старого еврея в начале двадцатых
годов, "не жизнь, а сплошная мука".
Кобяков исчез в Семипалатинске. В городке Рубежное Луганской области
оказался потомок декабриста поэт Никита Муравьев. Харбинский прозаик Альфред
Хейдок, пройдя лагеря, очутился на Алтае в жутком по названию городе
Змеиногорске. Из числа добровольных "возвращенцев" с зарубежного Дальнего
Востока выпали из литературы практически все, вне зависимости от того,
определяли ли им местом поселения -- часто после лагерей -- Среднюю Азию,
Свердловск или Краснодар; впрочем, оказавшаяся в Краснодаре поэтесса Лидия
Хаиндрова в семидесятые годы снова стала писать стихи, местное издательство
даже выпустило в 1976 году тонкую книжку ее -- "Даты, даты...". Книжка
прошла вполне незамеченной, сама поэтесса умерла в том же городе в 1986
году. Юрий Софиев, живший в Алма-Ате, несколько раз выступал с подборками в
местном русском журнале "Простор", но вместо собственной книги предпочел,
когда выпала возможность, издать книжечку стихотворений своей умершей в
Париже в 1943 году жены -- поэтессы Ирины Кнорринг. Называлась книжка
загадочно -- "Новые стихи". Думается, так обвели вокруг пальца алма-атинскую
цензуру. Даже Вертинский, любимейший артист советского правительства,
демонстративно поселенный в Москве на улице Горького (ныне снова, к счастью,
Тверской), хотя и давал по стране концерты тысячами при полных залах, хоть и
снимался в чудовищно скверных фильмах -- но возможности печататься был
лишен. "Почему я не пою но радио?.. Почему нет моих пластинок?.. Почему нет
моих нот, моих стихов?.." -- вполне риторически спрашивал Вертинский в
письме к заместителю министра культуры С. Кафтанову (письмо было
опубликовано лишь в 1989 году в журнале "Кругозор"), а как поэт Вертинский
обрел свое лицо лишь с выходом в 1991 году большого однотомника "Дорогой
длинною...", куда вошли образцы всех литературных жанров, в которых иной раз
работал артист. Даже к столетию со дня рождения Вертинского книга опоздала
на два года...
лагерь не попали, ни в глухую провинцию -- но, напротив, оставили заметный
след в той литературе, которую до недавнего времени принято было называть
советской. Это в первую очередь прославленный от Парижа до Шанхая Антонин
Ладинский, выпустивший в годы эмиграции пять поэтических книг. В тридцатые
годы на литературном небе русского Парижа он сверкал как звезда едва ли не
первой величины, но Париж и Францию он, по достоверному свидетельству Нины
Берберовой, люто ненавидел. После войны он взял советский паспорт и в 1950
году как чрезмерно ретивый советский патриот был из Франции выслан; провел
какое-то время в Восточной Германии, наконец, перебрался все-таки в СССР,
где и попал в скором времени... на положение второстепенного исторического
романиста: здесь и своих таких был эшелон с прицепом, и увечить историю они
умели куда виртуозней заезжего Ладинского. Но романы его, хоть и в
искореженном виде, в печать все же пошли и читателя своего тоже нашли, --
увы, Ладинский слишком быстро умер (1961). Стихи его почти неизвестны в
России по сей день.
И. Кутузова, кстати), никакой ненависти к Европе не питал, более того -- в
югославских справочниках он просто зарегистрирован как "свой" писатель, ибо
много написал по-сербски. Биографию этого крупнейшего ученого и
значительного поэта читатель найдет в нашем четырехтомнике, а вот история
его возвращения в Россию -- точней, "попадания в СССР", -- пожалуй, аналогий
не имеет. В 1947 году он, как и Ладинский, принял советское подданство, но
сходство на этом заканчивается. Французские демократы "патриота" Ладинского
просто выслали из страны. Менее демократичный маршал Тито в 1949 году
посадил Голенищева-Кутузова, одного из крупнейших в Европе специалистов по
Ренессансу, в каторжную тюрьму, -- из нее Илья Николаевич вышел лишь в год
смерти Сталина, вышел буквально "живым скелетом". Вскоре он навсегда покинул
Югославию, столь долго бывшую его второй родиной, в 1954 году недолгое время
преподавал в Будапештском университете, а в 1955 году добрался до СССР.
Здесь, при всей неустроенности быта и занявшей много лет адаптации к давно
переродившейся в худшую сторону культурной среде, он еще четырнадцать лет,
до самой смерти (1969), доводил до конца свои многочисленные научные работы,
изданные ныне многими толстыми томами. Лишь за год до смерти он собрал все
свои сохранившиеся стихи, восстановил кое-что по памяти, отредактировал,
отшлифовал, написал кое-что новое, и... по сей день рукопись эта не увидела
света.
Эйснера из Лорки, Голенищева-Кутузова из поэтов Далмации -- дела это никак
не меняло, у нашего читателя, сколько ни втолковывай, курица не птица,
переводчик не поэт. Конечно, кто-то читал исторические романы Ладинского и
Всеволода Никаноровича Иванова. Конечно, никто не оспаривал авторитета И. Н.
Голенищева-Кутузова как ученого. Наконец, имелось и исключение -- Цветаева,
которую попросту "приписали" к советской поэзии, -- ведь покончила с собой
она не где-нибудь, а в СССР! Но хочется оборвать этот жалкий и страшный
перечень.
свободу, либо жизнь, либо все вместе. Ветер, конечно, возвращается на круги
своя. Но сами круги слишком подвержены переменам, и вечер, в который
возвратится ветер, окажется совсем не тем вечером, из которою ветер брал
свой разбег, -- и нельзя войти дважды в одну и ту же воду.
поэта, попытавшеюся вернуться в СССР, чЕрен, как динамит (А. Несмелов). Для
поэта-эмигранта в России XX века путь к дому закрыт. Лишь чужая земля
способна дать жизнь его поэзии.
эмиграции отдельно от всех разновидностей ее, оставшихся в России. И даже
давать оценки и определить -- кому сколько строк и стихотворений нужно
отвести даже в столь объемной антологии, как наша. Обиженные все равно
будут, сколько голов -- столько умов, и сколько литературоведов и поэтов --
столько же -- а вообще-то гораздо больше -- галош, в которые они могут
сесть, раздавая лавровые венки и пощечины. Айхенвальд усмотрел в молодом
Сирине нового Тургенева. Престарелый "царскосел" Кленовский усмотрел в
поэзии позднего Георгия Иванова "путь попрания святынь и издевательства над
ними". Да и маститый Глеб Струве в своем фундаментальном труде "Русская
литература в изгнании" обронил утверждение, что послереволюционная
эмигрантская поэзия не могла, конечно, соперничать с той, что осталась в
России (Кузмин, Мандельштам, Ахматова и др., зато вот проза... Много ли
могут противопоставить советские прозаики романам Набокова? И так далее.
-- Платонов, Булгаков, Сигизмунд Кржижановский и др. могли бы -- если б их
печатали -- противопоставить эмигрантской прозе очень многое, как говорится,
"кабы не цензура". Впрочем, с цензурой и в эмиграции было не все ладно,
вспомним одну лишь изъятую "Современными записками" главу набоковского
"Дара". А вот советская поэзия... Не поленитесь составить антологию таковой
с 1920 по 1990 год с уговором, чтобы ни один поэт не был старше Дмитрия
Мережковского (1865 год рождения) и ни один -- моложе Олега Ильинского
(соответственно -- 1932), и увидите сами, что получается. Дай-то Бог, чтобы
чашки весов уравнялись. За рубежом после 1920 года проживало до девяти
миллионов тех, кто говорил по-русски. А внутри рубежа?
Видели и то, как эти поэты погибают. Судить поэта но судьбе никто не вправе,
судьба умирающего в Дальлаге Осипа Мандельштама не лучше судьбы гибнущею в
гитлеровском концлагере Юрия Мандельштама. Расстрелянный в июне 1937 года
киевским НКВД Венедикт Март судьбой своей равен расстрелянному немцами в
Париже заложнику Илии Британу.
чужую страну. Правом этим русские поэты обильно пользовались, к счастью: так
возникли для нас Китай -- Несмелова, Бразилия -- Перелешина, Австралия --
Нарциссова, Мексика -- Иваска, Италия -- Вячеслава Иванова, Греция -- Бориса
Филиппова и десятки других стран. Можно, впрочем, лишь пожалеть о том, как
мало вступали русские поэты в контакт с литературами тех стран, о которых
они писали.




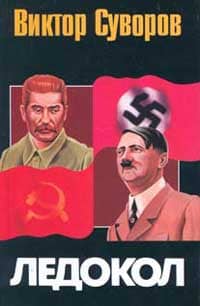
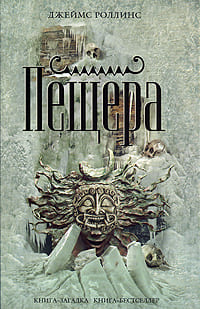
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена Верещагин Олег
Верещагин Олег Витковский Евгений
Витковский Евгений Емилина Ника
Емилина Ника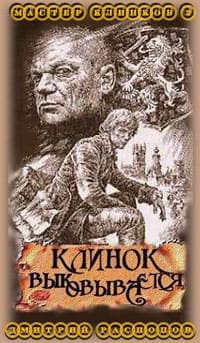 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий