вопрос о том -- что было раньше, "Люцифер" Вондела или "Потерянный Рай"
Мильтона -- явно для него предмет второстепенный, поэтому и возникает у него
сомнение "откуда что взялось" у Мильтона. Поскольку у русского читателя есть
возможность прочесть обоих авторов под одним переплетом (М., серия
"Рождество Христово 2000") -- "загадки Мильтона" таковыми быть перестают,
ибо космогония Мильтона полна дословных цитат из космогонии Вондела,
меннонита, перешедшего в католицизм за полтора десятилетия до написания и
постановки "Люцифера".
ошибку: "Намерение воплотиться не может хронологически предшествовать
падению Люцифера -- ведь предвечное знание Бога обо всем, что должно
произойти в мире, не означает, что Его действия внутри
пространственно-временного континуума лишены причинно-следственной связи".
Но католик Вондел был точно уверен, что намерение воплотиться в Человека
присуще Богу изначально -- для того человек и сотворен, и ангелам предложено
склониться перед ним, как вторым после Бога "лицом" во всей Вселенной;
Люцифер ущемлен в правах, он до сих пор полагал таковым вторым "лицом" себя,
и к бунту его побуждает гордыня. Люцифер, как и все иные ангелы, лишен
знания о будущем воплощении Христа; между тем пьеса шла в театре (хотя и
была запрещена после второй постановки), и зритель, о таковом воплощении
знающий, понимал происходящее на сцене лучше, чем персонажи. Мотивы
поступков Сатаны (у Вондела -- Люцифера) кажутся Расселу в этом ракурсе и
странными и неисследованными. Подобные истолкования В. В. Набоков в "Даре"
назвал "святой ненаблюдательностью", ибо концепция поведения будущего Князя
Тьмы у голландского классика на редкость стройна и практически полностью (с
поправкой на конфессиональную принадлежность авторов) продолжена Мильтоном в
"Потерянном рае".
полностью: "Если вселенная свисает с неба, если то и другое отделено Хаосом
от Ада -- где же Ад?" У Мильтона расположение Ада точно указано: по пути к
Земле Сатана встречает владыку Хаоса, Анарха, который недоволен тем, что
именно от его владений отторгнута часть, дабы сотворить в ней Ад; иначе
говоря, Ад лежит ниже Хаоса, а тот, в свою очередь, ниже Земли и ниже
небесных сфер: словом, по Мильтону и Хаос, и Ад лежат вне Вселенной, что
далеко не одно и то же, если сравнить с предложением Рассела рассматривать
Мильтонов Ад как место, расположенное нигде. Кстати, сцену с Анархом Рассел
отчего-то игнорирует.
между тем великий юрист написал ее в свои неполных 18 лет для показа
французскому дофину, и никогда не переиздавал -- а что главное, пьеса была
написана по-латыни. Рассел довольно точно пересказывает ее содержание, но о
том, как повлияла его пьеса -- прямо ли, косвенно ли через драмы Вондела,
сами по себе явно несущие на себе след знакомства с ней -- на великие эпосы
Мильтона, мы не находим ни слова.
Дидро (1713-- 1784), Клод Адриен Гельвеций (1715-- 1771) и Поль Анри Тьерри,
барон Гольбах (1723-- 1789) были полными атеистами и презирали деизм,
который для них мало отличался от суеверия". Однако история философии ясно
показала, что за возможным исключением Фридриха Ницше (мнение о. Александра
Меня) ни единого последовательного атеиста среди философов Европы никогда не
было, всегда где-то и что-то приходилось оставлять на усмотрение "пока еще
неизвестных законов природы", робеспьеровского "Верховного Существа", UFO,
-- наконец, спорный вопрос откладывался, к примеру, до окончательной победы
пролетариата в мировой революции. Перечисленные Расселом авторы (как и
более поздние) скорее веровали в собственный атеизм, чем последовательно,
как Ницше, отрицали Бога. О том же, что в старости Вольтер в Фернее выстроил
на собственные средства церковь, снабженную посвятительной надписью "Вольтер
-- Богу" Рассел не упоминает, хотя рассказывает историю о том, как Вольтер
сознался в том, что верит в Бога, но не верит ни в Христа. ни в Богородицу*.
Впрочем, Рассел справедливо оговаривается, что перечисленные им атеисты были
близки к впаданию в пантеизм -- тот самый, за который церковь сожгла
Джордано Бруно.
окончательно остался дотлевать последними угольками в головах провинциальных
профессоров, Рассел по крайней мере в историческом плане уделяет ему
внимание. Пожалуй, избыточное: ни один позитивист не вступит с ним в
полемику, -- если он, конечно, рациональный позитивист, а не стыдливый
агностик. Кстати, именно агностицизму как псевдорелигии, в которой часто
остается вера "в нечто эдакое" (то ли в Бога, то ли в Дьявола) автор книги
внимания почти вовсе не уделяет. А ведь именно слово "агностик" вписывают в
графу "вероисповедание" десятки, если не миллионов людей, говорящих на
большинстве живых наречий. Многие из них, не видя в мире ничего хорошего и
потому не веря в Бога, готовы скорее поверить в Дьявола. "Я Богом оскорблен
навек, / За это я в него не верю..." -- как в 1901 году писала Зинаида
Гиппиус. Ее лирический герой -- готовый кандидат в сатанисты.
результатом философии просветителей и энциклопедистов, способен вызвать у
читателя скорее не улыбку, а удивление; после всего новейшего сатанизма,
отношение по меньшей мере в литературной среде к де Саду сложилось
дружелюбное и несколько ироническое; трудно именовать де Сада "сатанистом"
после Алистера Кроули с его "Книгой закона", для которого "Сатана -- не враг
человечества, а Жизнь, Свет и Любовь"* после Антона Шандора ЛаВея с его
"Сатанинской Библией" и после Майкла Акино с его "Свитком Сета". Как
признает сам Рассел, ныне дьявол из литературы снова вернулся в жизнь на
роль маргинального, хотя чрезвычайно агрессивного бога -- пусть лишь для
немногих, притом и среди них преобладают все-таки жулики и душевнобольные,
но этим контингентом круг дьяволопоклонников, конечно, не исчерпывается.
Впрочем, для истории культуры творения вышеперечисленных писателей значения
не имеют, в отличие хотя бы от "Жюстины" де Сада; робкие попытки защитить
"Сатанинскую Библию" как литературное произведение базируются на том, что в
ней стилизован язык "Библии короля Иакова", но это защита с негодными
аргументами. Впрочем, круг прямых почитателей ЛаВея после его смерти в 1997
году сузился настолько, что перед нами скорее разворачивается борьба за
авторские права на "Сатанинскую библию", чем борьба между злом и добром: в
самом прямом и анекдотическом смысле "люди гибнут за металл".
определенный круг читателей. Всех истинно верующих почитателей
провозглашенного ЛаВеем Бога Сатаны после смерти автора "Сатанинской библии"
можно разместить в одном не очень большом кинозале; притом число поклонников
продолжает падать: Сатана не спасает, он даже не губит. А духовидцы,
затерянные среди шарлатанов, стараются молчать, ибо любое предсказание в
наше время многократно увеличивает вероятность сбываемости самого себя, и
таков эффект работы мировых СМИ. Однако в XIX -- XX веках лишь очень
немногим провидцам могло придти в голову, что двадцать первое столетие на
земле станет эпохой именно религиозных войн на грани глобального конфликта.
Здесь вера в Дьявола (религиозная или литературная -- со времен романтиков
уже не играет роли) снова срастается с сиюминутной политикой, и всякого
нового правителя, от Нерона до Горбачева, кто-нибудь непременно норовит
наречь Антихристом, действиями которого, это уж точно известно, движет лично
Сатана.
места, хотя именно это имя, впервые именно в такой огласовке произнесенное у
Гете, он сделал заглавием книги. Отсутствие канонического, бесспорного
перевода "Фауста" Гете на английский язык заметно затруднило и цитирование,
и пересказ трагедии; впрочем, у русского читателя возникают те же трудности;
старый перевод Николая Холодковского, выбранный нами для передачи цитат,
довольно тяжел и не всегда сохраняет форму подлинника; напротив, перевод
Бориса Пастернака, чрезвычайно точно воспроизводящий форму, не столь уж
близок к оригиналу -- это скорее собственный "Фауст" Пастернака. Расселу
принадлежит важное наблюдение: Мефистофель -- бес из числа самых безобидных,
Господь еще допускает беседу с ним. Это Дьявол, но не из великих князей тьмы
(хотя и не "мелкий бес", конечно). Это черт без копыта, -- хотя в
неизвестном, по всей видимости, американскому ученому романе Булгакова, по
крайней мере в его черновиках, "консультант с копытом" появлялся. Впрочем,
знакомство с русской литературой Рассел, кажется, начал и закончил на
Достоевском, о чем уже говорилось.
отбором чего-либо, принадлежного этому веку, непременно в ста образцах (сто
великих стихотворений, картин, научных достижений, -- и, конечно же,
романов). В первую пятерку написанных по-английски "великих романов" обычно
попадали одна, две, даже три книги Джеймса Джойса, но конкуренцию им
неизбежно составляли романы Фр. С. Фицджеральда, иначе говоря, тоже
ирландца, хотя и выросшего на американской почве; прежде всего его роман
"Великий Гэтсби" (1925). В обычной "центифолии" (как теперь принято
говорить, место в рейтинге) находилось место решительно всем романам
Фицджеральда, в том числе и единственному, созданному раньше, чем "Гэтсби"
-- "По эту сторону рая" (1920). В романе этом есть глава с недвусмысленным
названием "Дьявол", для принципиального, казалось бы, реалиста невозможная,
пусть и нетрезвому, но герою является самый настоящий дьявол. Причем главный
атрибут этого дьявола, заставляющий героя испугаться -- ноги. "А потом Эмори
вдруг заметил его ноги, и что-то словно ударило -- он понял, что ему
страшно. Ноги были противоестественные...<...> Обут он был не в
ботинки, а в нечто вроде мокасин, только с острыми, загнутыми кверху носами,
вроде той обуви, что носили в XIV веке. Темно-коричневые, и носы не пустые,
а как будто до конца заполненные ступней... Неописуемо страшные..." (перевод
М. Лорие). Как ни странно, этого дьявола Рассел не упоминает.
уже не требовались, -- это скорее атрибут оперного Мефистофеля из оперы
Гуно. Даже придуманная исключительно ради развлечения читателей хромота



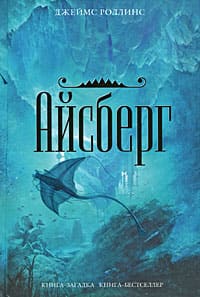

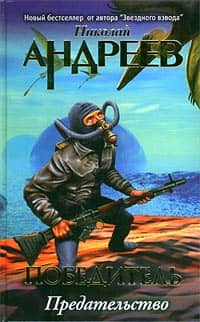
 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия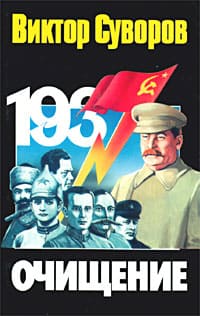 Суворов Виктор
Суворов Виктор Березин Федор
Березин Федор Максимов Альберт
Максимов Альберт Зыков Виталий
Зыков Виталий