большим стажем, заметим в скобках), Сергей Сергеевич Тхоржевский,
вспоминает, как в начале семидесятых приходил к нему ныне несправедливо
забытый поэт Евгений Шадров (писавший под псевдонимом "Игорь Нерцев",
1934-1975), чтобы поделиться стихами и одиночеством: "Помнится, он тогда
особенно любил стихи читаемого тайно Ивана Елагина: истинно родственной
душой оказывался тоскующий поэт-эмигрант..."* Можно бы привести еще
множество таких свидетельств. "Читаемым тайно" Елагин стал в СССР первым из
числа писателей "второй эмиграции".
впрочем, с перевода из Рыльского некогда началась его литературная карьера,
в книге "По дороге оттуда" мы находим переложение из почти неизвестной у нас
немецкой поэтессы Дагмар Ник (р.1926), в "Отсветах ночных" -- филигранно
выполненный перевод из Райнера-Марии Рильке. В Америке Елагин, конечно,
взялся прежде всего за перевод американской поэзии.
около пяти лет работы -- принес Ивану Елагину в 1969 году степень доктора в
нью-йоркском университете. А в августе следующего, 1970 года поэт вместе с
семьей переехал в Питсбург, где стал профессором местного университета. Там
он купил дом, там провел оставшиеся ему почти семнадцать лет жизни среди
любимых книг, картин, близких, друзей и учеников. Пришло что-то вроде
благополучия, -- конечно, по меркам той жизни, которую приходилось вести
раньше.
стоит отдельного внимания. Война Севера и Юга -- двенадцать тысяч строк
перемежающегося стиха, то рифмованного, то белого, то верлибра, десятки
сюжетных линий поэмы... Оригинал был издан в 1928 году, принес Бене премии и
репутацию классика при жизни, его имя попало в школьные учебники. Но это в
США. В СССР о поэме даже специалисты упоминали разве что вскользь, хотя само
существование Бене не игнорировалось: незадолго до своей смерти Бене сочинил
стихотворение "Россия", которое и прочитал на банкете Общества
американо-русской помощи 18 мая 1942 года; в переводе М.А. Зенкевича оно
много раз перепечатывалось в СССР, но этим все и ограничивалось.
(около двух тысяч строк), появилась в 1970 году в журнале "Америка",
мгновенно "распознанном" уже многочисленными к тому времени московскими
поклонниками Елагина. Это было первое "легальное" явление Ивана Елагина
советскому читателю. Московские фанаты поэта в очередной раз уселись за свои
"Эрики" (берущие, как известно из Галича, четыре копии), а мое терпение
лопнуло: я раздобыл питсбургский адрес Елагина и стал писать ему. Письма то
пропадали, то возвращались, наконец, пришел ответ -- он датирован 17 марта
1972 года:
я со всей семьей попал в автомобильную катастрофу. Слава Богу, все остались
живы, но пришлось больше месяца проваляться в больнице. Да и сейчас еще
чувствую слабость".
"Наплыв" -- "Мы выезжали из Чикаго..." В нем Елагин снова и снова переживает
катастрофу, что под новый, 1972 год слилась для него с бешеным бегом "скорой
помощи" на Андреевском спуске осенью 1941-го. Иначе говоря, ответ на мое
письмо Елагин написал после той самой катастрофы, что подарила читателям
"Наплыв", где поэт обмолвился ключевыми для понимания его творчества словами
-- "Во времени, а не в пространстве".
киевское прошлое. Елагин дошел в творчестве до синтеза; поздние его книги
практически не содержат слабых стихотворений, в них время и пространство
переплетаются настолько сложно, что читателю уже не отличить киевский
листопад от питсбургского. Четвертое измерение пространства -- время --
становится той основной координатной прямой, вокруг которой строится
елагинский поэтический мир, устремленный в давнее прошлое Америки -- "Где
бегали индейцы-лучники -- / Мостов защелкнулись наручники..."; образ
Гамлета, возникнув в семнадцатом веке, простирается в двадцать шестой, а
море, чудовищным спрутом ворочавшееся за кормой корабля Одиссея, плещется о
ветровое стекло машины самого Елагина. В семидесятые годы "вексель", которым
некогда Георгий Иванов сильно обидел поэта, был погашен так или иначе.
закончена новая книга стихов (примерно 120 страниц). Если напечатаю --
пришлю". Речь шла об очередной книге Елагина -- "Дракон на крыше", вышедшей
в 1973 году в издательстве Виктора Камкина (Роквилль), с обложкой и
иллюстрациями Сергея Голлербаха -- в это года ставшего уже известным всей
Америке художника. Впрочем, "Дракона" Елагин мне не прислал, а позже
объяснил причину: "Вместо "Дракона на крыше" (очень плохое -- не
типографское издание) пошлю Вашему дяде* мой последний сборник -- "Под
созвездием Топора". Туда вошло лучшее из "Дракона"" (письмо от ноября 1977
г.).
"Избранного" -- о ней он и пишет. Вышла книга в "Посеве", во
Франкфурте-на-Майне, и открытой почтой, понятно, в Москву никак бы не дошла.
К тому же Елагин в те годы уже вовсю печатался в "Континенте", из авторов
"второй волны" этот журнал (как и самиздат) признал его первым, --
соответственно возросла и "непровозимость" книг Елагина через советскую
таможню. Однако плотный кирпичик "Под созвездием Топора" (вместе с другим
плотным кирпичиком -- "Поколением обреченных" Галича, что очень символично)
на бесстрашной груди моего немецкого дяди советскую таможню миновал и попал
в мои руки.
поразителен был ее последний раздел -- "Новые стихотворения", содержавший
"Нечто вроде сценария", "Ты сказал мне, что я под счастливой родился
звездой...", "Все города похожи на Толедо..." и настоящую декларацию Елагина
-- "Не в строчке хорошей тут дело...", кончающуюся чуть ли не авторским
поэтическим завещанием:
без иронии), запечатленный с Иосифом Бродским на поэтическом вечере в
Питсбурге в 1974 году: измученный астмой немолодой человек с вечными кругами
вокруг глаз. Помимо основной преподавательской работы в Питсбурге, с лета
1968 года Елагин преподавал русскую литературу в Русской летней школе в
Миддлберри, штат Вермонт, и отдал этому делу больше пятнадцати лет -- лучших
учеников Елагин обрел именно в этой школе, где преподавание велось по-русски
и даже в быту ученики по мере сил старались разговаривать на языке Пушкина и
Елагина; сохранились десятки записей его лекций и разговоров, кое-что из них
опубликовано, буквально все -- интересно. Впрочем, многие его острые
словечки, записанные студентами, обнаруживаются в его же более поздних
стихах. Такое бывает только с очень полно реализовавшимися творческими
натурами.
Елагин знал точно ("Пойдут стихи мои, звеня / По Невскому и Сретенке; / Вы
повстречаете меня -- / Читатели-наследники" -- это стихи еще шестидесятых
годов).
предоставили мне сотрудники радиостанции, Елагин говорил о неизбежном
слиянии "внутренней" и "внешней" русской литературы, притом -- в скором
будущем: "Развиваются как бы два русла, но неизбежно их слияние, неизбежно в
конце концов это должно стать одним, и мы видим этот процесс -- медленный,
он и сейчас происходит. Скажем, бунинские стихи сегодня уже изданы в
Советском Союзе, то же произошло с Цветаевой, то же, вероятно, произойдет в
свое время и с Георгием Ивановым, и с Ходасевичем, и, надо надеяться, со
многими другими. Так что в общем это несущественно, это разделение. Это --
одна литература, разделенная не по литературным причинам".
благодарю Вас за внимание ко мне -- этим я не избалован. Отношение ко мне на
Западе более чем тепло-прохладное". Евгений Евтушенко во вступительной
статье к составленной им антологии русской поэзии "Строфы века" писал:
"Выдающийся поэт "второй волны" Иван Елагин полжизни отдал американским
студентам в Питсбурге, героически перевел "Тело Джона Брауна", а сам умер
даже без тонюсенькой книжки на английском". Справедливости ради, заметим:
книги на английском поэт не дождался, зато у него, на двоих с Моршеном,
вышел сборник на голландском -- "Меж двумя зеркалами" (Маастрихт, 1985).
Появлялись отдельные стихотворения в переводах на самые разные языки, от
английского до китайского, но настоящее признание к Елагину могло прийти
только в России, "в оригинале". Евы, оно пришло лишь посмертно, а по
большому счету, несмотря на десятки публикаций в альманах и журналах,
газетах и еженедельниках (часто -- миллионными тиражами "перестроечных"
лет), настоящее признание пришло лишь в 1998 году -- вместе с выходом
московского двухтомника: кстати, как и предсказал Елагин, вслед за
собраниями сочинений Георгия Иванова и Ходасевича.
в самиздате Елагин циркулировал тоннами. И здесь хочется процитировать не
Елагина, а петербургского поэта Николая Голя, автора самого проникновенного
гимна нашему самиздату:


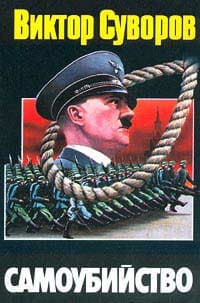
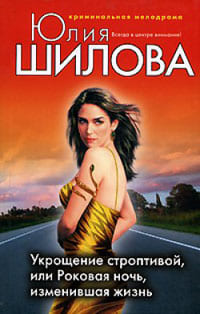


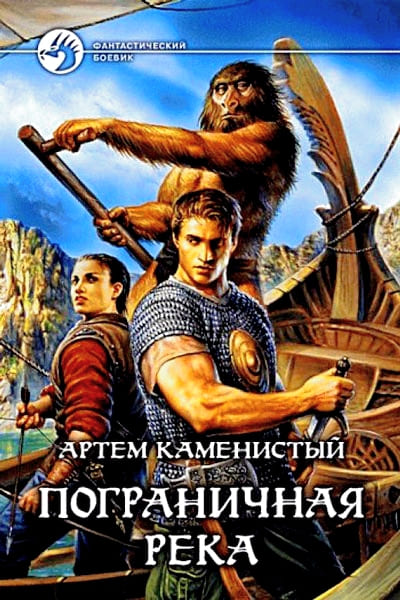 Каменистый Артем
Каменистый Артем Русанов Владислав
Русанов Владислав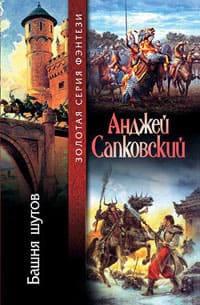 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Корнев Павел
Корнев Павел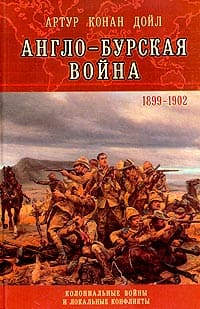 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Емилина Ника
Емилина Ника