занимаются. Тут каждый, как говорится, сам себе геронтолог. Для
меня первая примета старости - это когда в произведении
появляется лишнее. В стареющих кинолентах начинают раздражать
затянутости, в романах - долгие описания портретов, обстановки,
чрезмерные разъяснения... Когда-то меня занимала тайна
долголетия в искусстве. Почему одни произведения, которые
признавались талантливыми, дряхлеют, а на другие время не
действует?..
экспрессе по дороге из Токио в Нагасаки. За окном со скоростью
двести двадцать километров в час мчалась Япония. Поселки и
городки сливались в сплошные полосы огней - цветные повязки
ночи. Мы сидели в высоких креслах, в вагоне было тихо и
неподвижно, скорость была за окном. Сомов считал, что,
проанализировав процесс старения в искусстве, можно найти
способы избежать этого старения. Не торопясь, он принялся
расчленять, прикидывать и так, и этак, вслух, так, чтобы я мог
следить за его мыслью. Она ловко нащупывала подступы,
формулировала проблему, было страшновато наблюдать ее работу.
Можно было подумать, что еще немного - и Сомов найдет секрет,
длинную формулу, или таблицу, или правила, что-то в этом роде,
и преподнесет мне. Я был уверен в его могуществе. По этим
формулам можно будет создавать гениальные, то есть нестареющие,
произведения. Ну, конечно, не так-то просто, но, как говорит
Сомов, должны же быть какие-то законы, все явления подчиняются
каким-то законам, на все существуют законы...
знать, не желаю. По-кошачьему круглые глаза его заинтересованно
нацелились, а потом он рассмеялся:
боишься, задаром ведь... Впрочем, может ты и прав Такая штука -
вроде эпидемии. Представляешь если обнародовать секрет
изготовления шедевров
хватает? Славы? - Я внимательно посмот рел на него. - Послушай,
без шуток: если б ты нашел мог бы ты остановиться, утаить?
встревоженно: - Не знаю...
предметы глаз не успевал рассмотреть они плавились, словно не в
фокусе, четкость сохранялась лишь в глубине. Там медленно
кружились рисовые поля с маленькими домиками под тяжелыми
крышами.
темноте, заслоненная шумом, скоростью, слепящей каруселью
реклам.
том-то и дело, что он не устоял бы и обнародовал свое открытие.
Не важно, что никакого открытия не было и все это были
фантазии, меня занимала сейчас возможность. Он сознавал бы всю
опасность своего открытия и все равно не удержался бы от
искушения. Для него нет вредных и полезных открытий. Знание для
него всегда хорошо. В Императорском парке мы с ним любовались
двумя девушками. Они стояли на мостике, красные кимоно их
отражались в черной воде, детские мои воспоминания были тут ни
при чем, сама по себе эта картина была красива. Бывают такие
редкие случаи: все вдруг счастливо сочетается-краски, воздух,
солнце, - длится это какое-нибудь мгновение, и словно ощущаешь,
что никогда это больше не повторится...
начинает скоблить краски на этой картине. Выясняет, что внутри
этих кимоно пребывают студентки-двоечницы, что они не понимают
какого-то Фейнмана и т. п. Зачем ему понадобилось это выяснять?
Любознательность сжигала его, мешала ему наслаждаться, он
немедленно принимался потрошить, развинчивать, копаться...
камней.
скамье уселась большая немецкая семья - множество детей,
мамаша, бабушка и папа в красных носках и с таким же красным
налитым лицом.
сидеть часами, погружаясь в глубины духа. Мы, европейцы, не
умеем созерцать. Темп современной жизни не позволяет нам
остановиться. Мы превращаемся в роботов... Ах, Восток... Затем,
по его требованию, семья погрузилась в умиленное созерцание.
Через несколько минут он посмотрел на часы, поднялся, и все
дружно встали и отправились покупать цветные открытки и слайды
Сада камней.
с теми же словами. Сад камней ничего у меня не вызвал...
4
Темные камни на белом песке. Одни камни, больше ничего, ни
травинки, ни листочка. Они прежде всего напомнили мне камни
Нагасаки. Казалось бы, при чем тут Нагасаки, и все равно опять
Нагасаки, опять Хиросима. Куда бы я ни повернулся, любое
движение вызывало боль. После Нагасаки рана эта открылась, и
все цеплялось за нее, она не давала покоя...
старые стихи, написанные за столетия до атомного взрыва, автор
не мог и вообразить себе, какие сравнения вызовут у нас эти
камни. Они источали угрюмую печаль. В них была дикость...
Когда-то я читал книгу известного японского ученого Сёто
Нагаока "Измерения в эпицентре атомной бомбы в Хиросиме"
Профессор описывал превращения, которые произошли с минералами
в Хиросиме после взрыва. Гранит выпустил тонкие шипы, как бы
оброс щетиной. Камни текли покрылись коростой; страшные,
одичалые, они опрокинулись в свою первобытность, в какую-нибудь
эозойскую эру.
они предназначались для благоговейного и благочестивого
созерцания-вечная, неизменная природа и всякое такое, но я
видел в них камни Нагасаки.
делала для меня призрачными тихие улочки бывшей столицы и
глубокие полутемные лавочки, где горели бумажные фонарики и на
полках нежно просвечивал тонкий фарфор. Красные ворота храма
вели в чистый пустой двор. Холодное солнце светило там особенно
резко и сильно. Голые ветви вишен были в белом, словно цвели
тысячи подвязанных бумажек - молитвы и просьбы верующих. В
пустынных храмах открывалось пространство, огороженная пустота:
небо над головой, шум гравия под ногами, и в душе у меня
становилось свежо и радостно, как когда-то, а теперь бывает
только во сне, жизнь казалась еще долгой, и можно было в пей
еще кое-что исправить. Я хотел бы наслаждаться прелестью этого
старинного города, как Глеб. Но Киото был отравлен горечью
Нагасаки. Снова я возвращался к этой старой истории.
американских моряков. Рослые красивые парни, скучая, бродили
между стендами. Они совершали экскурсию по городу, они уже
побывали в храме Софу-кудзи, в домике мадам Баттерфляй, в
католической церкви, и теперь их привезли в музей. Молодые


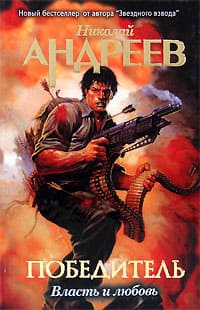

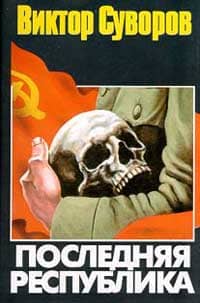
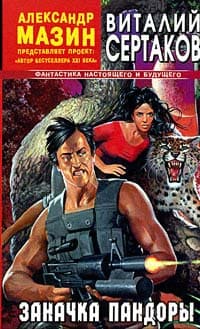
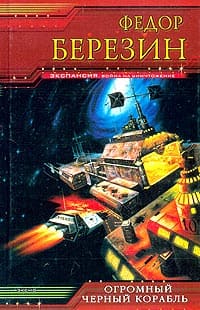 Березин Федор
Березин Федор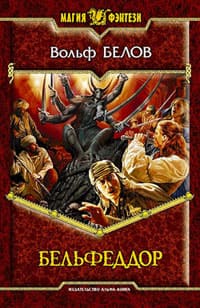 Белов Вольф
Белов Вольф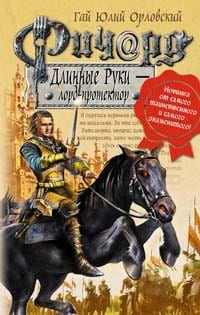 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Николаев Андрей
Николаев Андрей Березин Федор
Березин Федор Круз Андрей
Круз Андрей