Сол Беллоу
Планета мистера Сэммлера
1
небе рассветом, мистер Артур Сэммлер открыл мохнатый глаз, окинул взглядом
все книги и бумаги своей вестсайдской спальни и всерьез заподозрил, что
книги были не те и бумаги не те. Вообще-то это уже не играло никакой роли
для праздного человека, давно перевалившего за семьдесят. Только чудаки
настаивают на своей правоте. Правота в значительной степени была вопросом
объяснения. Интеллектуальный человек превратился в объяснителя. Все
объясняли всем: родители детям, жены мужьям, лекторы публике, эксперты
дилетантам, коллеги коллегам, доктора пациентам, каждый самому себе. Корни
этого, пружины того, истоки событий, историю, структуру, все отчего и
почему. В основном все это в одно ухо входило, из другого выходило. Душе
хотелось своего. У нее было свое врожденное знание. Она печально
барахталась в сложных сетях объяснений - бедная птица, не знающая, куда ей
лететь.
качают и качают воду, чтобы сохранить несколько акров сухой земли.
Наступающее море - отличная метафора для вторжения умножающихся
сенсационных фактов, земля же - это земля идей.
подумал, что может дать сну еще одну возможность разрешить условно
кое-какие трудности его реальной жизни, и плотнее завернулся в отключенное
одеяло с электрическим подогревом, ощущая все мышцы и сухожилия. Кончики
пальцев с удовольствием коснулись атласного края. Хоть тело все еще было
полно дремотой, сон больше не приходил. Пора приходить в сознание.
перед сном. Он любил следить, как преображается пепельно-серая спираль.
Она пробуждалась к жизни с яростью, разбрасывая вокруг крошечные искры,
потом, красная и неподвижная, погружалась в недра пирексовой лабораторной
колбы и раскалялась добела. Он видел только одним глазом, правым. Левый
мог различать лишь свет и тьму. Зато зрячий глаз был ярко-черный, остро
наблюдательный под нависающей, как у некоторых собак, бахромчатой бровью.
У него было маленькое для его роста лицо. Это сочетание делало его
заметным.
несколько дней мистер Сэммлер, возвращаясь ранним вечером в обычном
автобусе из библиотеки на Сорок второй улице, наблюдал работу карманного
вора. Тот садился в автобус на площади Колумбус. Свою работу, свое
преступление он совершал при подъезде к Семьдесят второй улице. Если б не
рост мистера Сэммлера и не его привычка ездить стоя, держась за ремень, он
никогда бы не заметил ничего своим единственным глазом. И вот теперь он
терзался, не придвинулся ли слишком близко, не был ли и он тоже замечен.
Хоть он и носил темные очки, чтобы защитить глаза от яркого света, его все
же нельзя было принять за слепого. Он носил не трость, а лишь складной
зонтик на английский манер. А главное, в его облике не было ничего от
слепого. Карманный вор сам был в темных очках. Это был могучий негр в
пальто из верблюжьей шерсти, одетый с удивительной элегантностью, то ли от
мистера Фиша с Вест-Энда, то ли от Торнбулла и Эссера с Джермин-стрит
(мистер Сэммлер знал свой Лондон). Очки негра - образцовые круги цвета
блеклой фиалки в прелестной золотой оправе - направлены были на Сэммлера,
но лицо при этом выражало лишь наглость крупного животного. Сэммлер был не
робкого десятка, но в жизни у него было достаточно неприятностей. С
большей частью он вынужден был примириться, но никак не мог принять это
как должное. Он подозревал, что вор заметил, как высокий седой старик
(быть может, притворяющийся слепым) наблюдал за малейшими деталями его
работы. Уставясь вниз, словно наблюдая операцию на сердце. И хоть он
сдержался, решив не отворачиваться, когда вор взглядывал на него, его
старое, замкнутое, интеллигентное лицо побагровело, короткие волосы
вздыбились, губы и десны пересохли. Он чувствовал напряжение, тошнотворный
спазм где-то у основания черепа, где тесно сплелись нервы, мускулы,
кровеносные сосуды. Словно дыхание военной Польши пробежало по
изуродованным узлам - по нервам-спагетти, так он представлял себе это.
придется отказаться от поездок в автобусе? Не надо было лезть не в свое
дело, это не занятие для человека за семьдесят, да еще в Нью-Йорке. Но
мистер Сэммлер никогда не чувствовал своего истинного возраста, никогда не
мог понять, что здесь он ни от чего не защищен, ибо нет у него ни
общественного положения, ни привилегий отрешенности от мирских невзгод,
которую в Нью-Йорке мог дать лишь ежегодный доход в пятьдесят тысяч
долларов, - членство в клубе, такси, швейцар, надежно охраняемый подъезд.
Для него оставались автобусы или грохочущая подземка и обед в
кафе-автомате. Для серьезных жалоб не было причин, но годы в Англии, два
десятилетия в Лондоне в качестве корреспондента варшавских газет и
журналов, создали у него привычки, не вполне подходящие для эмигранта на
Манхэттене. Его лексикон пестрил выражениями, которые были бы уместны в
профессорской в Оксфорде, его лицо было лицом посетителя Британского
музея. Еще школьником в Кракове перед Первой мировой войной Сэммлер
влюбился в Англию. Потом из него вышибли большую часть этой ерунды. Он
заново пересмотрел все аспекты англомании, скептически переоценив
Сальвадора де Мадариага, Марио Праца, Андре Моруа и полковника Брамбля. Он
постиг суть явления. Но сейчас, в автобусе, лицом к лицу с этой элегантной
скотиной, опорожняющей чужую сумку на его глазах - эта сумка так и
осталась незакрытой, - он вновь впал в английский тон. Сухое, чопорное,
сдержанное лицо свидетельствовало, что никто не пересекает ничьих границ:
каждый занят своим делом. Но в недрах высоких подмышек у мистера Сэммлера
было мучительно горячо и мокро, когда он висел на ремне, впрессованный в
чужие тела, принимающие его вес и нагружающие его своим, в то время как
пузатые шины с рычанием описывали гигантский полукруг по Семьдесят второй
улице.
приближался. Об этом можно судить по его походке. На улице он был
стремительно легок, быстр и неосторожен, старческие прядки задорно
топорщились на его затылке. Пересекая улицу, он поднимал свой складной
зонтик, чтобы указать автобусам, автомобилям и быстрым грузовикам, куда он
намеревается свернуть. Они вполне могли переехать его, но он не способен
был избавиться от этой повадки шагающего слепца.
работает в автобусе, идущем по Риверсайд-драйв. Он видел, как тот
опорожнял кошельки, и сообщил об этом в полицию. В полиции не очень
заинтересовались этим сообщением. Мистер Сэммлер почувствовал себя дураком
из-за того, что сразу же побежал к телефонной будке на Риверсайд-драйв.
Телефон, конечно, был разбит вдребезги. Почти все телефоны-автоматы были
разбиты, изувечены. Кроме того, их использовали как писсуары. Нью-Йорк
становился хуже, чем Неаполь или Салоники. В этом смысле он превращался в
азиатский, африканский город. Даже богатые кварталы не были безопасны.
Словно ты открывал инкрустированную дверь прямо в деградацию, из роскоши
византийской сверхцивилизации попадая прямиком в естественное состояние, в
цветной варварский мир, врывающийся снизу. Впрочем, варварство обитало по
обе стороны инкрустированной двери. В вопросах секса, например. Все дело,
как мистер Сэммлер начал теперь понимать, сводилось к захвату привилегий,
к свободе варварства под защитой всех порядков цивилизации - права на
собственность, рафинированной технологической организации и всего прочего.
Да, по-видимому, это так.
колен, проворачивая рычажок против часовой стрелки. В будничных действиях
он проявлял специфически педантичную сознательность. В Польше, Франции,
Англии молодые джентльмены его времени не имели никакого представления о
кухне. Теперь он делал вещи, которые когда-то делали за него горничные и
кухарки. Он делал их с покорностью священника. Признание социального
падения. Историческое крушение. Перерождение общества. В этом не было
личного унижения. Эти идеи он изжил еще в Польше во время войны -
полностью изжил весь этот бред, особенно идиотскую боль из-за потерянных
классовых привилегий. Настолько, насколько позволял ему единственный
зрячий глаз, он делал все сам: штопал себе носки, пришивал пуговицы,
чистил раковину, проветривал зимние вещи весной и брызгал на них жидкостью
от моли. Конечно, все это могли делать женщины - его дочь Шула или
племянница (по жене) Марго Эркин, в чьей квартире он жил. Они делали для
него кое-что, когда вспоминали об этом. Иногда они делали даже многое, но
ненадежно, бессистемно. Ежедневный быт он взял на себя. Это даже
составляло часть его молодости - молодости, сохраняемой с некоторой
судорожностью. Сэммлер хорошо знал эту судорожность. Что могло быть
забавнее ее. У старух, носивших пестрые колготки, у старых женолюбов
Сэммлер подмечал эти судороги, этот трепет радости, что и они подчиняются
полновластному молодежному стилю. Власть есть власть - правители, короли,
боги. И конечно, никто не умеет уйти вовремя. Никто не способен, сохраняя
достоинство, принять смерть.
Красная спираль раскалялась все яростнее - белее, добела. Витки ярились.
Разбрызгивались бусинки воды. Один за другим пузырьки-первопроходцы
грациозно всплывали на поверхность. Потом они забурлили все разом. Он
всыпал порошок. Потом бросил кусок сахара в чашку. В ночном столике он
хранил пакет луковых крекеров от Забара. Пакет был пластиковый -
прозрачный маточный пузырь, стянутый белым пластиковым зажимом. Ночной
столик, окантованный медью - когда-то это был увлажнитель, - сохранял пищу
свежей. Он принадлежал раньше мужу Марго, Ашеру Эркину. Сэммлер тосковал




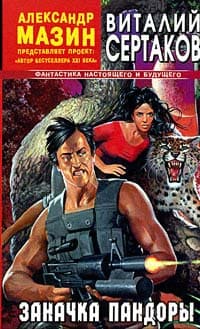
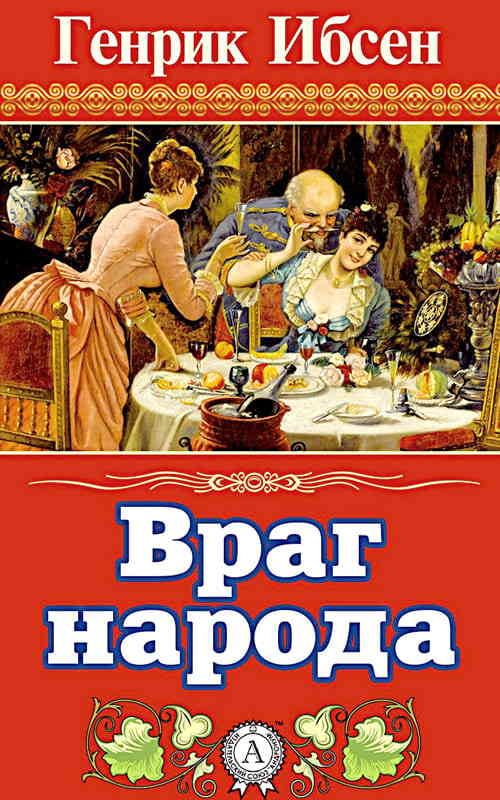
 Лукин Евгений
Лукин Евгений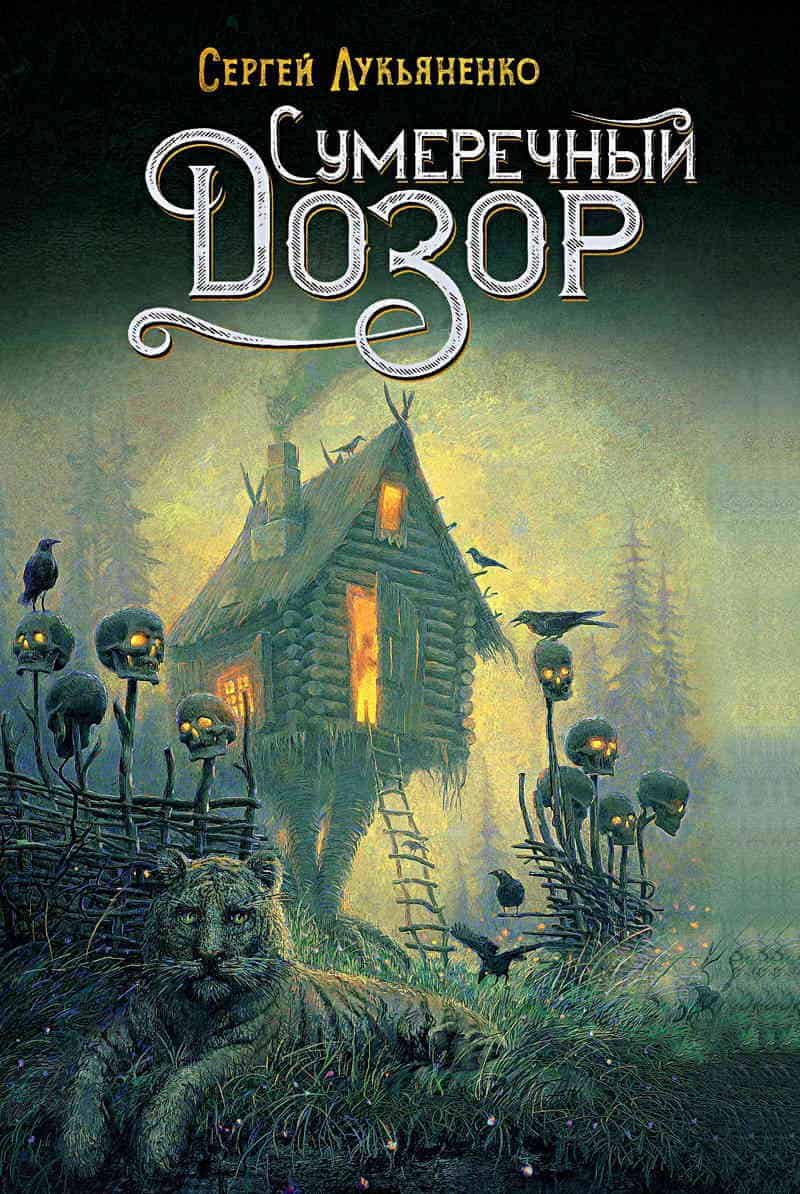 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Контровский Владимир
Контровский Владимир Никитин Юрий
Никитин Юрий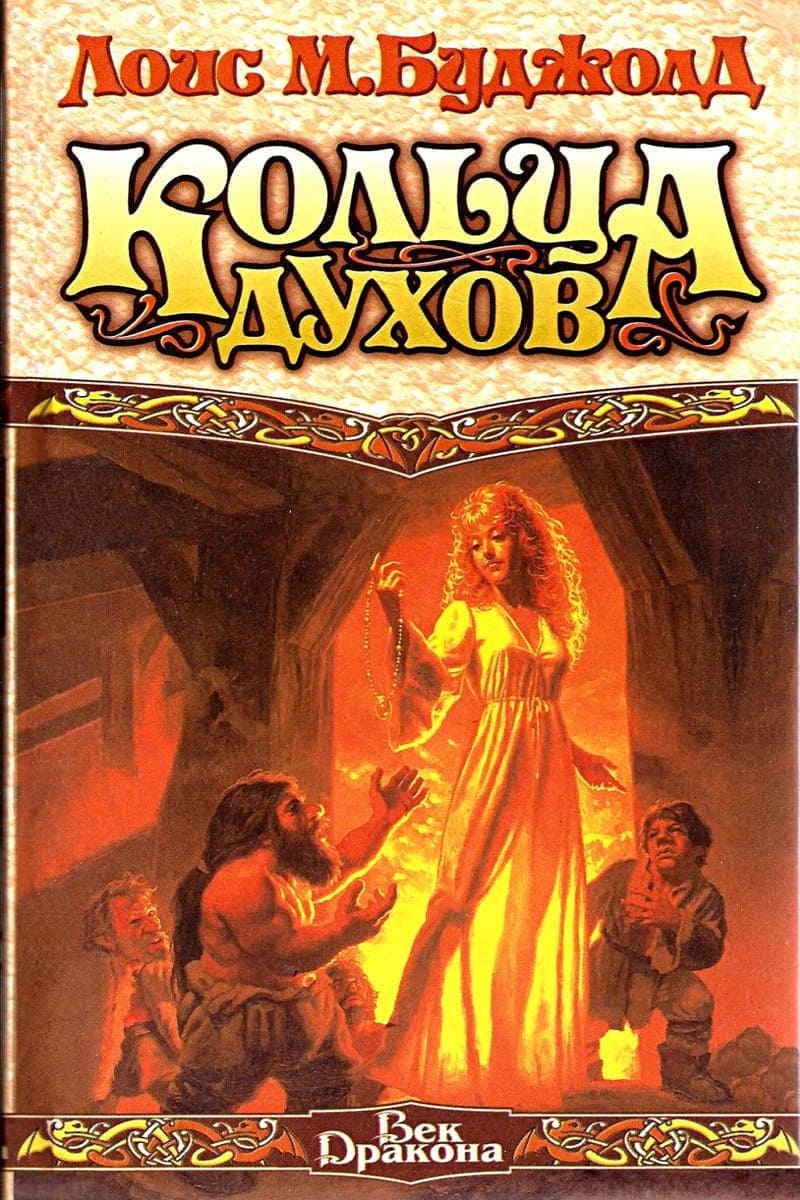 Буджолд Лоис
Буджолд Лоис Свержин Владимир
Свержин Владимир