Девчонки мои маленькие, парнишечки мои беленькие - здравия вам желаю!.. Ах
ты, боже мой, до чего же мятой, мятой, мятой отчаянно пахнет!..
Про что?
Матросская тишина... И не бывает так, чтобы не было... Ни черта человек не
стоит, если у него нет или не было... И сколько бы он ни прошел, сколько бы
ни проехал - всегда у него есть такая заветная улочка - Матросская тишина,
на которой он еще не успел побывать... А я ходил по Тульчину, по Рыбаковой
балке... Людмила, ты здесь?
не могу говорить!
Прочти мне.
ты читаешь, легче. Боль легче. И вообще мне с тобой спокойно. Ты спокойная.
Быть бы тебе, Людка, врачом. Медиком. (После паузы.) Ну, прочти же мне
что-нибудь!
серые предрассветные сумерки.
лающим кашлем, сотрясаясь всем телом и разрывая черными пальцами рубашку на
груди.
долго?! Вот что, Ариша, ты побудь здесь, а я сбегаю - потороплю.
Слышишь? Ни на минутку.
вернусь. (Поспешно уходит.)
расширенными от ужаса глазами.
потерпи!..
лбом к оконному стеклу.
падает на табурет, стоящий возле койки Давида.
наклонившись к Давиду, все в том же, лучшем своем черном костюме, в котором
он когда-то приезжал в Москву. И все та же старомодная касторовая шляпа
лежит у него на коленях. И все тот же серебристый пушок вокруг головы. Он
стал совсем прозрачным и легким, этот пушок, и только там, с левой стороны,
где прошла пуля, виден черный след запекшейся крови. К рукаву пиджака
пришпилена английской булавкой грязная повязка с желтой шестиконечной
звездой и черной надписью "Юде".
думал, что ты знаешь, милый, об этом.
тебя! Почему же я вижу тебя? Ты чудишься мне, да?
что-нибудь чудится. Женщинам чудятся неприятности, мужчинам - удачи. (После
паузы.) И даже мне в тот самый последний день, когда нас вели под конвоем на
Вокзальную площадь, - мне чудилось, что я иду встречать твой поезд.
гетто развесили объявления, что нас отправляют на поселение в Польшу и что
мы должны в воскресенье с вещами явиться на Вокзальную площадь...
поверили... На одного умного всегда найдется два с половиной дурака!..
пересчитали, построили в колонну и новели! (Усмехнулся.) Это же все-таки
Тульчин, а не Киев. В Киеве, говорят, для этого дела подавали автобусы... А
нас повели... И мы шли - женщины, старики и дети... Был дождь и ветер... И
мне помогали идти - этот каменщик из дома восемь, Наум Шехтель, и его жена
Маша, сестра Филимонова... И вот мы шли, шли... И лил дождь, и лаяли собаки,
и плакали дети... А на улицах было пусто... Совсем пусто... Все попрятались
по домам, и только, когда мы проходили, шевелились занавески на окнах... И
этому как раз я был рад!
Тульчине. И умер в Тульчине. Я почти всех знал в нашем городе, и мне не
хотелось, чтобы старые мои знакомые, увидев меня в тот день, отворачивались
и прятали глаза... Ну, и нас привели на Вокзальную площадь. И снова
пересчитали. Они очень аккуратные люди, эти эсэсовцы. Они пересчитали нас и
приказали сдать вещи. А мне нечего было сдавать. Я ничего не взял. Только
твою детскую скрипочку, твою половинку, на которой ты когда-то сыграл первое
упражнение Ауэра. Только твою скрипочку и мой альбом с фотографиями... А с
немцами был Филимонов... Оказалось, между прочим, что его фамилия Филимон...
И даже фон-Филимон... Так, во всяком случае, он утверждал! И когда этот
Филимон увидел у меня в руках скрипочку, он засмеялся и крикнул: "А ну-ка,
пархатый черт, сыграй нам кадыш! Сыграй нам поминальную молитву, пархатый
черт!"
здесь?.. Ты же немка, дура, уходи!" Но она сказала: "Я русская" - и обняла
своего Наума, и не ушла!.. Ах, Маша, Маша! Ты помнишь, какая она была
красивая, Додик?! Я как-то спросил у нее: за что она любит своего рыжего
Наума? А она засмеялась и ответила... Знаешь что? "Меня все называют Машей,
- сказала она, - но никто, ни один человек на свете не умеет так говорить
"Маша", как это умеет мой Наум". Ах, Маша...
очевидно, кого-то ждали. Какого-то начальника. И тогда этот Филимон снова
крикнул: "Ну, сыграй же нам кадыш, пархатый черт!" И знаешь, Додик, я вдруг
ужасно рассердился... И на этого Филимона, и на немцев, и даже на самого
себя! Ну почему я стою в грязи, с опущенной головой, и почему у меня дрожат
руки... Я поднял твою скрипочку, твою половинку, на которой ты учился играть
упражнения Ауэра, и подбежал к господину Филимону, и ударил его этой
скрипочкой по морде, и даже успел крикнуть: "Когда вернутся наши, они
повесят тебя, как бешеную собаку!"
Дальше, милый, начинается твое "дальше".
было дальше! Мы взяли Тульчин после семи суток беспрерывных сумасшедших
боев...




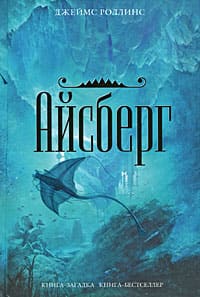

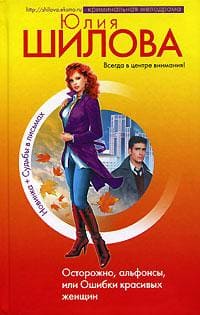 Шилова Юлия
Шилова Юлия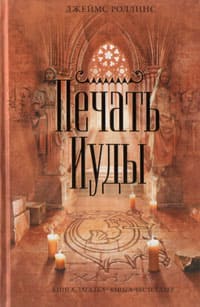 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Скальци Джон
Скальци Джон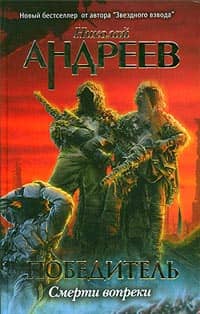 Андреев Николай
Андреев Николай Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий