– За что? – спросил, зевая, толстяк.
– Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но зато ваше имя перейдет в потомство. Скажите, пожалуйста, как вас зовут.
– Рено Шато, хранитель печати парижского Шатле, к вашим услугам.
– Сударь, вы здесь единственный ценитель муз! – повторил Гренгуар.
– Вы очень любезны, сударь, – ответил хранитель печати Шатле.
– Вы один, – продолжал Гренгуар, – внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась?
– Гм! Гм! – ответил наполовину проснувшийся толстяк. – Пьеса довольно забавна!
Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, – гром рукоплесканий, смешавшись с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа шутов был избран.
– Слава! Слава! – ревела толпа.
Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была поистине изумительна! После всех этих пятиугольных, шестиугольных причудливых лиц, появлявшихся в отверстии, но не воплощавших образца смешного уродства, который в своем распаленном воображении создала толпа, только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать бурное одобрение. Сам мэтр Копеноль рукоплескал ей, и даже Клопен Труйльфу, участвовавший в состязании, – а одному богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть его лицо! – даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал, точно клык слона, один из зубов, этот раздвоенный подбородок… Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления и грусти, которая отражалась на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности!
Одобрение было единодушное. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом.
Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной; огромный горб между лопаток, и другой, уравновешивающий его, – на груди; бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая спереди два серпа с соединенными рукоятками; широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги, – необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа.
Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан.
Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и в высоту, «квадратное в самом основании», как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому камзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству простонародье тотчас же признало его.
– Это Квазимодо, горбун! – закричали все в один голос. – Это Квазимодо, звонарь Собора Парижской Богоматери! Квазимодо кривоногий. Квазимодо одноглазый! Слава! Слава!
Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах.
– Берегитесь, беременные женщины! – орали школяры.
– И те, которые желают забеременеть! – прибавил Жоаннес.
Женщины и в самом деле закрывали лица руками.
– У! Противная обезьяна! – говорила одна.
– Злая и уродливая! – прибавляла другая.
– Дьявол во плоти! – вставляла третья.
– К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше.
– Вместе с кошками.
– И насылает на нас порчу через дымоходы.
– Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно. Я приняла его за мужчину и ужасно испугалась.
– Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше.
– Мерзкая харя!
– Подлая душа!
– Фу!
А мужчины – те восхищались и рукоплескали горбуну.
Квазимодо, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный, стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой.
Один школяр, кажется Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимодо ограничился тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на десять в толпу. И все это он проделал молча.
Восхищенный мэтр Копеноль подошел к нему и сказал:
– Крест истинный, никогда в жизни я не встречал такого великолепного уродства, святой отец! Ты достоин быть папой не только в Париже, но и в Риме.
Он весело хлопнул его по плечу. Квазимодо не шелохнулся.
– С таким парнем я охотно кутнул бы, даже если это обошлось мне в дюжину новеньких турских ливров! Что ты на это скажешь? – продолжал Копеноль.
Квазимодо молчал.
– Крест истинный! – воскликнул чулочник. – Да ты глухой, что ли?
Да, Квазимодо был глухой.
Копеноль начал раздражать Квазимодо: он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки.
И тут священный ужас образовал вокруг этой странной личности кольцо, радиус которого был не менее пятнадцати шагов. Какая-то старуха объяснила Копенолю, что Квазимодо глух.
– Глух! – чулочник разразился грубым фламандским смехом. – Крест истинный, да это не папа, а совершенство!
– Эй! Я знаю его! – крикнул Жеан, спустившись наконец со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимодо. – Это звонарь моего брата архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!
– Сущий дьявол! – сказал Робей Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. – Поглядишь на него – горбун. Пойдет – видишь, что он хромой. Взглянет на вас – кривой. Заговоришь с ним – глухой. Да есть ли язык у этого Полифема?
– Он говорит, если захочет, – пояснила старуха – Он оглох оттого, что звонит в колокола. Он не немой.
– Только этого еще ему недостает, – заметил Жеан.
– Один глаз у него лишний, – заметил Робен Пуссен.
– Ну, нет, – справедливо возразил Жеан, – кривому хуже, чем слепому Он знает, чего он лишен.
Тем временем процессия нищих, слуг и карманников вместе со школярами направилась к шкапу судейских писцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимодо беспрекословно и даже с оттенком надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили на пестро раскрашенные носилки. Двенадцать членов братства шутов подняли его на плечи; какой-то горькою и презрительною радостью расцвело мрачное лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем галдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по городу, двинулась, согласно обычаю, по внутренним галереям Дворца.
VI. Эсмеральда
Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Гренгуар и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без устали декламировали его стихи, а он без устали их слушал. Примирившись с гамом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Копеноль, Квазимодо и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинула залу. Толпа жадно устремилась за ними.
– Отлично! – пробормотал он. – Все крикуны уходят.
К несчастью, «крикунами» была вся толпа. В одно мгновение зала опустела.
Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, пресытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько школяров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь.
«Ну что же, – подумал Гренгуар, – пусть хоть эти дослушают мою мистерию. Их, правда, мало, но зато публика избранная, образованная».
Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильное впечатление при появлении Пречистой девы, не может быть исполнена. Гренгуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов.
– Обойдемся и без симфонии, – стоически произнес поэт.
Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им обрывок разговора:
– Мэтр Шенето! Вы знаете Наваррский особняк, который принадлежал господину де Немуру?
– Да, это против Бракской часовни.
– Так вот казна недавно сдала его в наем Гильому Аликсандру, живописцу, за шесть парижских ливров и восемь су в год.
– Как, однако, растет арендная плата!
«Пустяки, – вздыхая, утешил себя Гренгуар, – зато остальные слушают».
– Друзья! – внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках, – Эсмеральда! Эсмеральда на площади!
Это имя произвело магическое действие. Все, кто еще оставался в зале, повторяя: «Эсмеральда! Эсмеральда! «, бросились к окнам и стали подтягиваться, чтобы им видна была улица.
С площади донеслись громкие рукоплескания.
– Какая еще там Эсмеральда? – воскликнул Гренгуар, в отчаянии сжимая руки. – О боже мой! Теперь они будут глазеть в окна!
Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление прекратилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру с молнией. А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу у сцены.
– Мишель Жиборн! – в сердцах крикнул поэт. – Что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену!
– Увы! – ответил Юпитер – Какой-то школяр унес лестницу.
Гренгуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала Всякое сообщение между завязкой и развязкой пьесы было прервано.
– Чудак! – пробормотал он – Зачем же ему понадобилась лестница?
– Чтобы взглянуть на Эсмеральду, – жалобно ответил Юпитер. – Он сказал. «Стой, а вот и лестница, она никому не нужна», и унес ее.



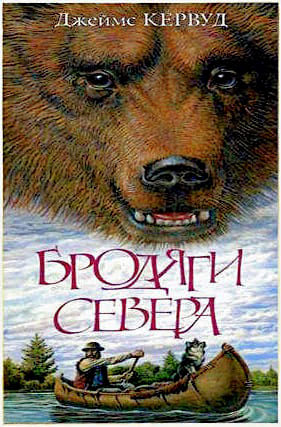


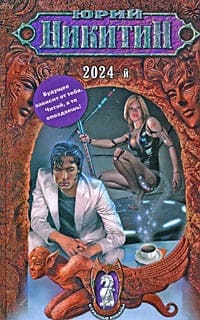 Никитин Юрий
Никитин Юрий Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей Максимов Альберт
Максимов Альберт Каменистый Артем
Каменистый Артем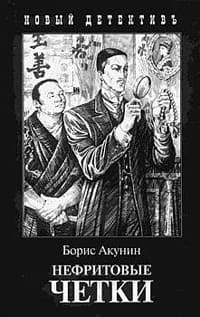 Акунин Борис
Акунин Борис