очевидным усилием поднялся, закинул за плечо ременную лямку от волокуши.
Один Пивоваров остался сидеть, привалясь боком к стожку, и не шевелился.
встать!
уже дошел до предела в своих и без того не очень больших возможностях.
Вряд ли из него можно было еще что выжать, но и оставлять его под этим
стожком тоже никак не годилось.
Лукашов, поднимите бойца!
власть, - только она одна и могла тут подействовать. Лейтенант,
разумеется, сознавал всю бессердечность своего далеко не товарищеского
требования, понимал, что этот, в общем, послушный и исполнительный боец
заслуживал лучшего с ним обращения. Но в этой дороге Ивановский
перечеркнул в себе всякую дружескую сердечность, оставив лишь холодную
командирскую требовательность.
едва превозмогая в себе усталость, и Лукашов вдруг вскипел:
Пивоваров лишь завалился на спину, вскинув вверх ногу с лыжей. Лукашов
дернул еще - боец серым бессильным комком скорчился в поднятом им снежном
вихре.
чувства, лейтенант резко перекинул на разворот здоровую ногу.
завтрашний день, который, по всей видимости, придется провести в снегу и
неподвижности, да еще на обратный путь, а он, вполне возможно, будет
похуже этого. Даже наверняка будет хуже. По крайней мере их теперь не
преследовали, их просто еще не обнаружили, ночь и метель надежно скрывали
их след. А что будет завтра? Вполне может случиться, что завтра они будут
с нежностью вспоминать эту обессилившую их ночь. Но как бы там ни было
сегодня, а не дойдут в срок - просто не будет у них никакого завтра.
раздумье, и, пошатываясь, встал.
возьмет Лукашов. Возьмите, сержант, у него вещмешок. Совсем мало осталось.
Самый пустяк. До рассвета укроемся в ельничке, разведаем, высмотрим и
вечерком такой тарарам устроим. На всю Смоленщину! Только бы вот Хакимова
дотащить. Как он там, дышит?
Краснокуцкий. - А может, оставить бы, а, товарищ лейтенант? Зарыли бы в
стожок...
как: нам жить, а ему погибать? Что тогда генерал скажет? Помните, он
наказывал: держитесь там друг за дружку, больше вам не за кого будет
держаться.
тащили...
всего именно так и будет - сколько времени боец не приходит в себя. Да еще
эта тряска, холод, закоченеет, и все. А бойцы, которые тащат его, могут
выдохнуться раньше, и тогда всем будет плохо. Ивановский, не признаваясь
даже себе, начинал смутно чувствовать, что Хакимов медленно, но верно
волею фронтовой судьбы превращался из хорошего бойца и товарища в
невольного их мучителя, если не больше.
стать жертвой, подобной той, какой стали Шелудяк или Кудрявец. Но разница
между Хакимовым и ими состояла в том, что те, погибая, оставили в их душах
благодарность и скорбь, Хакимов же чем дальше, тем больше вызывал нечто
совсем другое. В то же время было совершенно понятно, что вся его
оплошность заключалась лишь в том, что его организм упорнее противостоял
смерти. Наученный собственным горьким опытом, лейтенант понимал, какое это
бедствие - раненый в группе. Теперь они, безусловно, опоздают, не смогут
затемно перейти шоссе, застрянут в снегу на безлесье, где их легко могут
обнаружить немцы. Но как Ивановский ни мучился от сознания столь
безрадостной перспективы, он не мог допустить и мысли о том, чтобы
оставить раненого. Долг командира и человека властно диктовал ему, что
судьба этого несчастного, пока он жив, не может быть выделена из их общей
судьбы. Они должны сделать для него все, что сделали бы для себя. Это было
законом для разведчиков Волоха, таким оно останется и в группе
Ивановского.
трудную ночь. Превозмогая несильную, но ежесекундную боль, он едва двигал
раненой ногой. Тем не менее, скрыв от остальных свое ранение, он оставался
в глазах бойцов равным со всеми в своих физических возможностях, и это без
скидки налагало на него равные с прочими обязанности. С некоторых пор он
начал чувствовать в себе некоторую неловкость оттого, что, вынуждая других
на сверхчеловеческий труд, сам шел налегке, взяв в качестве дополнительной
ноши лишь винтовку Пивоварова. Долг товарищества требовал честно разделить
с остальными все тяготы.
которая казалась Ивановскому относительно безопасным участком пути. На
карте здесь значились только луга, кустарники или болота, деревень
поблизости не было, и встреча с немцами была наименее вероятной. Две
переметенные снегом дороги они перешли благополучно, теперь оставалась
последняя - большое и, конечно, никогда не пустующее фронтовое шоссе,
перейти которое возможно лишь ночью. Но до шоссе еще было километров пять,
и лейтенант, шатаясь от усталости, подождал в темноте Краснокуцкого.
буран стихает.
действительно почти стих. Черное небо поднялось, отслоясь от земли, внизу
лежало спокойное белое поле, странно вспучившееся сочной ночной белизной,
по сторонам опять проступила кружевная вязь кустарников с редкими кляксами
молодых елочек. По-видимому, близилось утро. Отекшей рукой Ивановский
достал из кармана часы - было четверть седьмого.
задвигал лыжами. Шли вдоль низкорослого, черневшего на снегу верболоза. Не
унималась вспыхнувшая досада оттого, что так не вовремя стихла метель,
которая теперь была бы куда как кстати. Без нее перейти шоссе будет
труднее, тем более если они запоздают. По всей видимости, им не хватает
какого-нибудь часа темноты, и этот час может решить все. Генерал в
коротком напутствии перед выходом настойчиво советовал максимально
использовать темноту - только ночь сулила им какую-то надежду на успех;
днем, обнаружив их, немцы, конечно, постараются истребить всех до единого.
А ночью они еще смогли бы оторваться и уйти. Что это именно так, лейтенант
отлично понимал без доказательств, но все-таки он был признателен генералу
за его заботу и добрый совет, в которых чувствовалось что-то совсем не
генеральское, а скорее отцовское по отношению ко всем им и к лейтенанту
тоже. Безусловно, они тоже понимали, что на них возлагалось. С этой ночи
они становились единовластными хозяевами своей судьбы, потому что в
трудную минуту помочь им не сумеет никто - ни генерал, ни сам господь бог.
Но всю дорогу в снежной круговерти этой суматошной ночи лейтенант нес в
себе немеркнущий огонек благодарности генералу за его человеческое
участие. Этот огонек грел его, вел и таил в себе желанную надежду на
успех...
Ивановский более всего боялся попасть на глаза именно этому придирчивому,
строгому и всевластному генералу, начальнику штаба. Да и не только он -
многие в тихой лесной деревеньке, где размещался штаб, с немалой опаской
проходили мимо его высокой, с резными наличниками избы. Генерал был
беспощадно строг ко всем подчиненным, а здесь, разумеется, все, кроме
разве командующего, находились в его прямом подчинении. Одному богу было
известно, за что он мог в любую минуту придраться: генерал не терпел
праздношатающихся, нарушителей формы одежды и маскировки, тех, кто не так
быстро, как ему хотелось, исполнял или передавал приказания - мало ли за
что может придраться к подчиненному строгий начальник в армии! Как-то



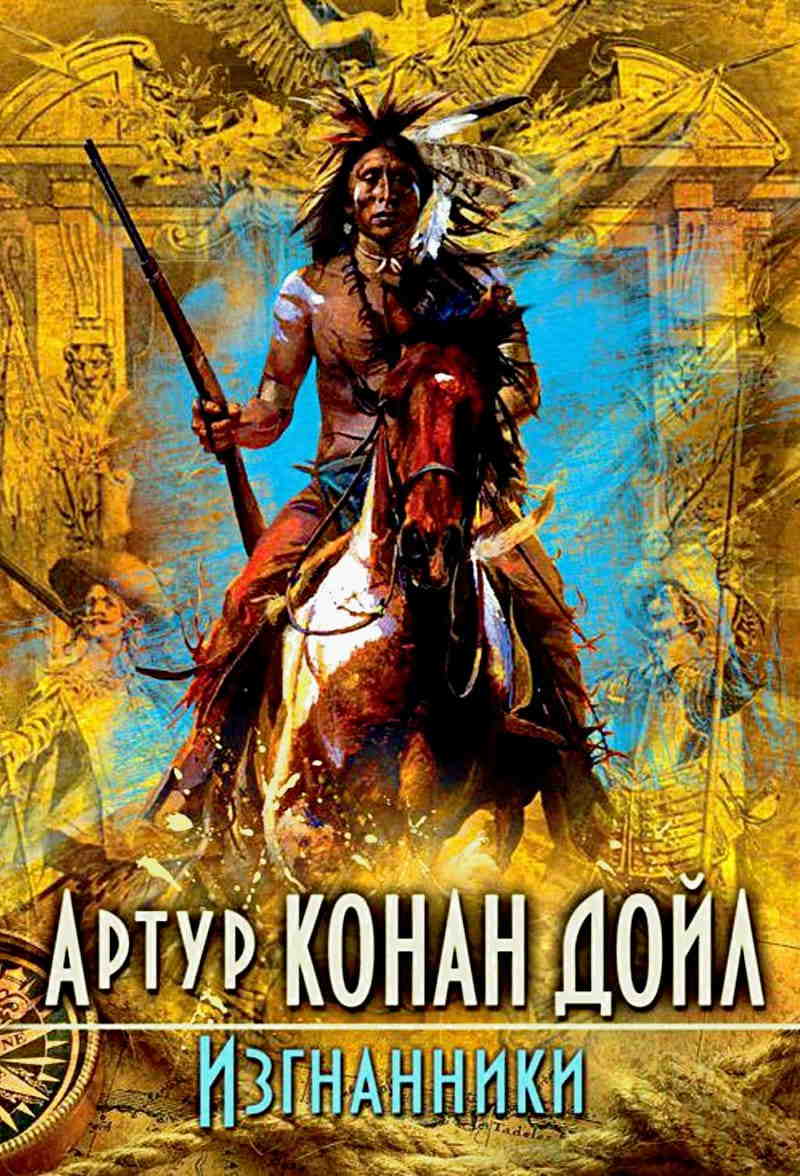
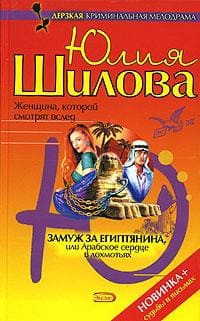

 Корнев Павел
Корнев Павел Василенко Иван
Василенко Иван Аникина Наталья
Аникина Наталья Шилова Юлия
Шилова Юлия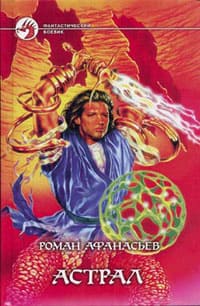 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Каменистый Артем
Каменистый Артем