каюту. Потом все же успокоились бичи, поздно уже было, улеглись. Одни Шурка
с Серегой еще доигрывали кон, а после сводили счеты:
койке, а на сон грядущий оглядел перед собою весь подволок и переборку. Он,
как поселился, сплошь их обклеил всякими красотками. Из журналов, да и
своего производства - Надьками-официантками, Зинками-парикмахершами, - в
кофточках и так, неглиже на лоне природы, где-нибудь он их за сопками
снимал, средь серых скал, гусиная кожа чувствовалась. Он даже расписание
тревог убрал, чтоб разместить всю коллекцию. Потом и Серега щелкнул
плафончиком.
головой, а где-то далеко, в теплом нутре урчала, постукивала машина. И я
летел один, качался над страшной студеной глубиной. Все сказочки для меня
кончились. Они-то, впрочем, давно уже кончились. Я в этом рейсе как будто
впервые плавал, заново открылись у меня глаза и уши, и я все видел и слышал
со стороны, даже себя самого. Странно, кто это со мной сделал? Может быть,
эта самая Лиля? Да нет, она уже потом появилась, а сначала мне самому вдруг
захотелось совсем другой жизни, где ничего этого нет - ни бабьих сплетен, ни
глупостей, ни тревоги: что там делается дома, чем будешь завтра жив. Потом
она появилась - в Интерклубе мы познакомились, на танцулях. Чествовали тогда
не то английских торгашей, не то норвежцев, теперь не помню, а помню, как...
Ну, вы представляете, как это бывает, когда полон зал и накурено, хоть топор
вешай, и все уже обалдели, выпили, накричались, обмахались всякими там
жетонами и значками, и уже кое-где спят в углу, на сдвинутых стульях, а у
массовички регламент еще не кончился, - хотя она уже еле ползает и хрипит,
как боцман на аврале, - ей, видите ли еще хочется, чтоб мы теперь всей
капеллой станцевали "международный" танец: "Внимание! - хлопает в ладоши. -
Эттэншен плы-ыз! Смотрим все на меня. Делаем, как я. И-и раз! И-и два!
Беремся все за руки". И вот чья-то рука оказалась в моей, только и всего.
Горячая, цепкая. Потом я ее в буфет повел: "Плы-з, леди, плы-ыз", раздобыл
выпить, и мы посидели за столиком, а рядом сложил голову какой-то мулат.
Иногда просыпался, подмигивал нам. Та еще была атмосфера! И я зачем-то слова
коверкал "по-иностранному" - до дурости какой-то или отчего-то вдруг оробел,
- а она все допытывалась: "Вы англичанин? Инглиш? Нет, вы норвежец!" Пока я
ей не брякнул: "Из тутошних мы, не робей". Как она рассмеялась!.. На ней
было зеленое платье с вырезом, платок за рукавом, и волосы - копной. Потом я
ее провожал. Я еще ничего не знал про нее, кто она и что она, но вдруг
померещилось, что я свое нашел, и теперь я все к чертям перепахаю, меня на
все хватит. А вот упал - в первой борозде. Из того же я теста, что и все
прочие.
коленкор. Тоже сказочка, не лучше она и не хуже, чем у Васьки Бурова,
который их где-то вычитал, да все перепутал, когда рассказывал своим
пацанкам. Но это все-таки не из книжки, он в самом деле приходил к нам на
флот, этот парень, лет десять назад или двенадцать. Откуда он взялся -
никому не ведомо. Куда потом делся - тоже. Вот он и есть Летучий Голландец -
я вам рассказываю северный вариант.
4
экспедиции бывали по полугоду, и залавливали рыбаки по тысяче тонн, по
восемьсот в самый худой рейс, а приносили домой по тридцать пять, по сорок
тысяч старыми. Может быть, селедки тогда в Атлантике было побольше, а может
быть, столько же ее и было, да она еще не научилась мимо сетки ходить. Я вам
скажу, само время было легендарное. Тогда на всем косогоре от причала до
"Арктики" стояло двадцать девять забегаловок, стоячих и сидячих, а тридцатой
была сама "Арктика", но до нее, конечно, редкие добирались. Тут-то и
"выкристаллизовывалась стойкая когорта", как говорил наш старпом, из
Волоколамска, и ей, конечно, весь почет доставался и все уважение гвардейцев
пищеблока. Шла эта когорта, не сняв роканов*, в сапогах полуболотных, в
касках-зюйдвестках**, чуть только окатывали себя шлангами, а все-таки ей
скатерки постилали крахмальные, и "Арктика" не закрывалась до тех пор,
покуда последнего посетителя двое предпоследних не уносили на руках. Потому
что все понимали - что такое полгода без берега! Этого только Граков не
понимал, из отдела добычи, он тогда на всех собраниях призывы кидал:
"Рыбаки! Возьмем перед родиной обязательство - год без захода в порт!.."
Рыбаки - то есть кепы, старпомы и "деды" - слушали и помалкивали. Родину
любили, план уважали, но и с ума тоже не хотелось сходить. Да, Граков,
наверное, на то и не рассчитывал - было бы слово сказано.
вторым классом, вытолкнули в рейс, а там, как бывает, кого списали "из-за
среднего уха"* или кто-нибудь опоздал к отходу, и этого салагу переоформили
в первый. Потому что он сразу притерся и пошел вкалывать, как будто для
этого и родился. Правда, когда штормило, ему плохо делалось, он в койке
лежал зеленый, а все-таки, когда звали на палубу, выходил первым и держался
других не хуже. Но в ту экспедицию штормы были не частые явления, а вот рыба
хорошо заловилась, пустыря ни разу не дергали, а все больше по триста, по
четыреста бочек набирали в день. И вот - полгода прошло, как одна трудовая
неделя, от гудка до гудка, и радист получает визу - можно сниматься с
промысла. Тогда он, конечно, вылетает из рубки пулей и орет, как чокнутый:
"Ребята, в порт!" - и рулевой, без команды, тут же кладет штурвал круто на
борт, делает циркуляцию и держит, собака, восемьдесят три градуса по
ниточке, как никогда не держал. А машина уже врублена на все пять тыщ
оборотиков, она чуть не докрасна раскалена, плюется горелым маслом, сейчас
развалится... А полгоря, если и развалится, по инерции долетим! И парус,
конечно, поднят на фоке-мачте, и Гольфстрим подгоняет - лишь бы свой залив
сгоряча не проскочили. Вот они уже прошли Лофотены, вот и обогнули Нордкап,
вот и Кильдин-остров - кому видится, кому не видится. А встречным курсом,
конечно, идут на промысел другие траулеры и приветствуют счастливчиков
гудками и флагами.
подходит к капитану. "Просемафорьте, пожалуйста, встречному - не нужен ли
матрос?" Я себе представляю этого кепа - у него, наверное, шары на лоб
вылезли. "А тебе-то зачем? Не хочешь ли обратно на промысел?" - "Вот именно,
хочу обратно". - "Нет, - кеп говорит, - я тебя слышу или не слышу? Или,
может, я сдурел?" Голландец ему улыбнулся вежливо: "Просемафорьте,
пожалуйста, а то они пройдут".
- значит, я пересяду. Пускай плотик пришлют". - "Погоди, - говорит кеп, -
плотик мы тебе и сами спустить можем. Но ты сначала сходи к кандею, пусть он
тебя накормит, а потом покури подольше, а за это время крепко подумай. Они
подождут - не в порт же шлепают". - "Зачем же? Я об этом полгода думал". -
"Давай вместе еще подумаем. Завтра приходим. Берешь аванс - сколько душа
просит. Сидишь в "Арктике". Женщины тебя любят и целуют. Выбираешь самую
лучшую и едешь с ней в Крым. Или - на Кавказ. Представляешь?" - "Очень даже.
Прикажите, чтоб плотик быстрей смайнали".
мешкая. Вся команда его отговаривала, а он и не возражал, только улыбался.
Пароход отошел от него, подошел встречный и принял его на борт. На прощанье
он помахал своим бичам и тут же к другим ушел в кубрик. И плавал с ними еще
полгода, тряс сети, бочки катал, выгружал на плавбазах. Другие к концу рейса
уже одуревали, а он всю дорогу оставался таким же спокойным и ясным. Притом,
рассказывали еще, кто с ним плавал, что писем он ни разу ниоткуда не
получал, и радиограммы ему не приходили, и сам он никому не писал. А все
время после работы лежал в койке и читал газеты да изредка, задернув
занавеску, пописывал карандашиком у себя в блокнотике. Однажды подсмотрели,
без этого не обходится, - там какая-то цифирь была и ни одного слова. Но
вообще-то никакой придури за ним не водилось, и был он всем свой, только
всем на удивление - вот ведь, кит его проглоти, плавает человек два рейса, и
ему хоть бы хны. Но главное-то, никто себе в голову не забрал, что еще
дальше будет. Когда завернули за Нордкап, он опять подошел к капитану:
"Просемафорьте, пожалуйста, встречному - не нужен ли матрос?"
ступая на берег, только видя его за двадцать две мили, - но это ведь и не
берег, это мираж. Уже на всех траулерах знали про этого Летучего Голландца,
и половина портовых бичей подсчитывала, сколько же он загребет, да всякий
раз со счета сбивались. Потому что за каждую новую экспедицию ему набегали
какие-то там проценты и сверхпроценты - длительные, прогрессивные, полярные
и Бог еще знает какие, - и на круг выходило раза в полтора больше, чем в
предыдущую. В последнем рейсе он уже втрое против кепа имел, а подсчитали,
что, если он в шестой раз пойдет, он половину всей зарплаты экипажа возьмет,
это уже тюлькиной конторе не выгодно! Да, но как ему запретишь? Он такой
матрос был, что его не спишешь, и он ведь в своем праве - не чужое берет,
горбом заколачивает. Уже, я так думаю, самому Гракову икалось - до чего его


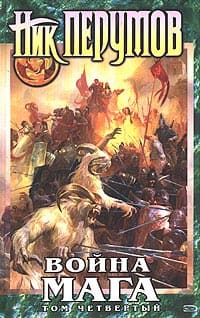
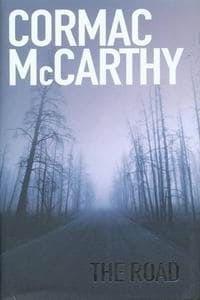


 Перумов Ник
Перумов Ник Маркеев Олег
Маркеев Олег Беляев Александр
Беляев Александр Свержин Владимир
Свержин Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия